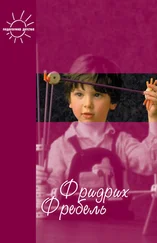— Оставь ты мальчика в покое, — заступается Мария за сына и обнимает, словно кто-то покушается на него.
— Так мне с сыном уж и поговорить нельзя? Отцовское слово худому не научит, на дурную дорожку не толкнет. А учиться может на круглые пятерки, только этим и занимается. И сыт, и одет, и угол есть — чего больше? Учись себе…
— Так учится же ребенок…
— Не тебе говорю, — злится Винцас.
Стасис прекрасно понимает, что творится в душе брата. Одинок он, будто дерево среди полей. Вот он наливает рюмку, глазами торопит кузнеца Кунигенаса, Ангелочка и, не дожидаясь, пьет до дна, словно заглатывая свою сердечную боль. А Мария опять шепчется с Винцукасом, и от этого их шушуканья всем неловко. Может, оттого старик Кунигенас откашливается и заводит речь о колхозах. О них мужчины могут говорить день и ночь. И говорят. Один за другим спешат высказать свои думы и страхи, гадают, что за жизнь будет в колхозе. У каждого есть что сказать, и не столько о себе, сколько о соседе: я работать буду, а он на печке сидеть, руки промеж ног согревать, а и ему и мне одинаково отсыплют; я отдам и лошадь, и корову, и плуг с бороной, а другой придет голым да еще кучу шаромыг приведет на мое добро; моя земля — хоть на хлеб мажь, а на его полях черт ногу сломает, там и так камень на камне, да каждый год еще новые вылезают, а хлеба такие жиденькие, даже по нужде присесть негде…
— Но живет же мужик в России, — несмело вставляет Ангелочек. — Сколько уж лет в колхозах, а живет. И немца в бараний рог скрутил…
Мужчины пялятся на Ангелочка, словно тот с луны свалился. И набрасываются, будто осы, когда их гнездо потревожишь. Да какая там, прости господи, жизнь.
Стасис слушает жаркие речи, в груди учащенно бьется сердце, но сам рта раскрыть не может, хоть у него и есть что рассказать мужчинам. Хотя бы и о земле Курляндии, испоганенной, изрытой взрывами, к которой, словно к матери, прижимался, когда перемешивались земля и небо, о том, как поднимались они в атаку — мужчина против мужчины.
Возможно, и не понравилось бы, отмахнулись бы они, его соседи, от его слов, но мозгами бы порядком ночью поворочали, пока все хорошенько не отсеяли бы да не взвесили. Глядишь, и осталось в голове здоровое зерно.
— Литовец как был Фомой неверующим, так и останется, — говорит Ангелочек, словно только ему все ясно, а другие мыкаются с завязанными глазами. — Помните, как с помидорами было?.. Кунигенас, ты наверняка помнишь, как в двадцатом сеяли, сажали и пересаживали помидоры, а когда созрели — пробовали, морщились и плевались… И не только мы с тобой, все плевались и божились, что такой гадости и сами больше выращивать не станут, и другим закажут. А попробуй теперь его от помидора отговорить — дураком обзовет. К сальцу помидорчик ой как подходит. Лучшей закуски не сыщешь…
Мужчины снова вскинулись, словно вспугнутые лошади. Где это видано — помидор с колхозом на одну доску! Давайте не смешивать помидор с одной штукой — в одной бочке их не засолишь.
Стасис хохотал вместе со всеми, а про себя думал: почему люди, столкнувшись с новшеством, не вперед глядят, а назад озираются! Наверно, потому, что будущее всегда туманно, а минувшее ясно и проверено на собственном сладком или горьком опыте — да лишь бы хуже не было, а по сей день жили и бога не поносили. Лучше синица в руках, чем журавль в небе или жареные голуби, обещанные на завтра. И вообще, ну их в болото, все эти обещания, когда человек и черным хлебушком проживет, лишь бы был…
Разошлись мужчины в сумерках.
Стасис с Агне легли рано, даже лампы не зажигали. Он обнял ее и полушутливо спросил:
— С каких пор такой богомольной сделалась?
— Какой?
— Богомольной. В костел ночью вылетела. Просыпаюсь — хвать-похвать, а тебя ни духу. Чего же просила у бога?
— За тебя, дурачка, молилась, — буркнула Агне.
— Что я, больной, и ты меня уже хоронить собираешься? — пытался он превратить все в шутку, но у Агне не было желания шутить.
— Сам знаешь, — сказала она. — И не думай, что я ничего не понимаю, хоть и молчишь, будто чужой. Я все вижу: и как ходишь чернее тучи, и как по ночам зубами скрипишь, во сне к богу взываешь… Не с добра это. Слезами захлебываюсь, глядя на тебя такого. Неужели я совсем чужая тебе? С каждым днем все больше замыкаешься, иногда кажется, что на меня словно на пустое место глядишь, а мысли неизвестно где летают… Почему ты так?..
Все это Агне высказала полушепотом и таким взволнованным голосом, что у Стасиса сдавило сердце, до слез стало жалко ее, такую хрупкую, прильнувшую к нему, словно ребенок, такую преданную и доверчивую, готовую на все ради него. Но и теперь он пытался отшутиться, хотя очень хотел ответить ей такой же искренностью, без недомолвок рассказать о тревогах и сложностях двойственной жизни, о том, что он, быть может, не имеет никакого права навлекать на нее все эти опасности… Хотел, но снова пошутил:
Читать дальше