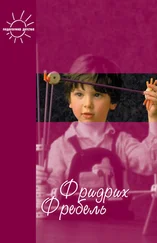— О чем ты?! — вроде не понял Стасис.
— Знаешь… не притворяйся. Сам когда-то говорил, что при открытой двери — как посреди двора…
— Ну, вот это разговор посерьезней, — рассмеялся он, обнимая теплые плечи жены. — Для этого дела придется выковать крюк из настоящей стали: пока будут ломать, пока вырвут — смотри и закончим начатое…
— Не трепись.
— Я и не треплюсь, серьезно рассуждаю.
— Ах, серьезный ты мой! Так и не сказал, где в ту ночь шастал.
Стасис крепче прижал ее, хотел сказать хоть часть правды, хоть чуточку приоткрыть свою большую тайну, но перед глазами мелькнули рассыпавшаяся на мох картошка, худая шея женщины, девчушка, мечущаяся в медвежьих лапах Клевера, и он понял, что никогда не сможет рассказать всю правду, и она никогда не поймет, не простит ему. Разве что позже, когда время занесет пеплом весь этот ужас. Поэтому сказал:
— Продержали они меня. Отнес лекарства, а они продержали всю ночь, боялись, что приведу за собой хвост.
— В лесу?
— В лесу, где еще…
— Всю ночь?
— Сама знаешь, когда я пришел.
— Пришел сам не свой, — вздохнула Агне, погладила его щеку, ладонью скользнула по груди и, расстегнув рубашку, прильнула. — Всякое я передумала… Еще, как нарочно, этих бедных Нарутисов… Ты не сердись, но я скажу тебе: не могла смотреть на твои руки, боялась увидеть на них кровь… Не сердись, хорошо?.. Думала, не выдержу… Да и ты хорош, хотя бы одно понятное слово сказал. Не приведи господь еще раз пережить подобное. Лишь бы они оставили тебя в покое…
— Всякое может быть, — промычал неопределенно.
— Они тебе что-нибудь говорили? — встревожилась она.
— Ничего… Но от них всего можно ждать. Приволокутся, как в ту ночь, и как быть, — сказал он, и вдруг мысленно вынырнул тот, его двойник, и принялся с сожалением рассуждать, что правильнее было бы с самого начала ничего не скрывать, а все выложить откровенно и позволить решать ей самой — ехать в деревню или оставаться в городе, где не подстерегает опасность, где тень человека — всего лишь тень, а не крадущаяся по пятам смерть. И хотя он прижимал ее к себе, утешал, хотел высказать все, что накопилось, но тот, второй, невидимой рукой зажимал рот, требовательно и повелительно утверждая, что теперь откровенничать слишком поздно и даже опасно. Надо было подумать об этом намного раньше и подготовить ее к такой жизни, когда ежедневно ходишь между бытием и небытием. А теперь уже поздно… Агне терпеливая. Она выдержит. Будет мучиться, терзаться, но выдержит. А вот с Винцасом шутки плохи. Даже сам черт не знает, что он может выкинуть, когда дурь стукнет в голову. «В роду Шалн подлецов не было». Что он хотел этим сказать? А ведь с ним откровенно не поговоришь. Все испортит, все карты так перетасует, что потом не отличишь, где король, а где валет… Но может, все обойдется. Часто из большой тучи бывает маленький дождь. Дай боже, чтобы так случилось…
Проснулся он на рассвете. Агне уже не было. Через незанавешенные окна в избу просачивалось предрассветное утро, небо белело ясное и чистое, словно умытое ночным дождем. Он вылез из-под перины, выпил несколько глотков холодного молока, оставленного в кринке на подоконнике, торопливо оделся и выбрался на двор. У двери остановился, зачарованный токованием тетеревов. Со всех сторон доносилась их непрерывная песня, казалось, в лесу клокочет, кипит огромный котел: буль-буль-буль-буль… Птицы пели свою свадьбу и на далеких лесных полянах, и где-то у самой деревни, потому что иногда слышалось их шипение — чутишш, чутишш, словно сипела севшим голосом злая баба, выгоняя кур из огорода. Проснулись и скворцы, и дрозды, и другие пичужки. И так запели, зачирикали, засвистели и защебетали, что, казалось, часами слушал бы лес, приветствующий солнце.
Пасхальное утро.
Из деревушки не доносится ни звука, хотя самое время задавать корм скотине. Сразу после полуночи люди прибрались и уехали в костел, на воскресную службу. Мария с Винцасом тоже укатили. Наверно, и Агне с ними, хотя с вечера говорила, что не поедет. Скоро должны вернуться. «Пора уже», — думал он, собирая в охапку щепы потолще и обрезки досок, оставшихся от строительства дома и сваленных под временным навесом.
Пошел в избу и затопил печку, чтобы вернувшаяся Агне могла поставить пирог. Потом поспешил к Версме, набрал ведра воды, поставил на берегу и пошел осмотреть заброшенные с вечера продольники. Со звоном, щебетом и шипением, пенясь, клокотала Версме по камням; зимой и летом здесь из-под земли бьет ключ — лучшего места для форели не сыскать. И сегодня, проверив продольники, он вытащил семь красивых пятнистых форелей. Наживку вместе с крючками рыбы заглотнули так глубоко, что пришлось браться за нож. Присев у камня, тут же очистил, выпотрошил и вымыл рыб в ледяной воде Версме, радуясь, что будет хорошее жаркое для пасхального стола. Работал, думая о чем-то постороннем, словно шел за бороной, когда, изредка понукая лошадь, мысленно можешь летать по всему белому свету.
Читать дальше