Ночью мне приснился сон: ко мне пришел Лев Толстой и сел на край койки. Он был в серой широкой рубахе, подпоясанной веревочкой.
— Как же вы?.. — начал я и замялся, потому что неудобно же было сказать человеку: «Вы же умерли».
Но он понял, о чем я умалчиваю, чуть улыбнулся и сказал:
— А так…
— Скучно там?
— Ой, как скучно, вот и пришел узнать, как ты живешь, божий человек, Алексей.
— Хорошо живу.
— Значит, у тебя поживу.
— Живите, — согласился я. — Только как насчет карточек?
— Что за карточки?
— Хлебные и продуктовые.
— Да много ли мне надо?
Я протянул руку и пощупал его. В нем почти не было плоти. Сквозь него я смутно видел предметы.
И вдруг мне стало ужасно жалко его.
— Плачешь? — спросил он.
— Это так — сейчас пройдет.
— Мои книги читаешь?
— Читаю.
— Что ж ты не на фронте? Родину надо защищать.
— У меня глаз один не видит.
— Неправда.
Он достал из мешка автомат и протянул мне.
— Вот тебе.
Я вскочил с постели, прошелся с автоматом по нашей комнатенке, которая оказалась почему-то очень большой. Обоими глазами я видел одинаково хорошо. Острая радость наполнила мне грудь. Толстой стал рассеиваться. Усилием воли я старался удержать его, но бесполезно. Все растаяло в воздухе. Я что-то кричал ему, но он не слышал.
Теперь вечерами старики не читают про святых и чудотворные иконы. Георгий Иванович пребывает в пасмурном настроении. Он что-то не ладит с Аграфеной Ивановной. Видно, надоело ему целыми днями «мантулить» на нее. А на Захара Захаровича напала болезненная болтливость. Ко мне он больше не обращается — раза два я высказал ему все, что о нем думаю. Аграфене Ивановне его рассказы надоели. Поэтому он с нетерпением ждет прихода Литы, и едва она на порог, начинает рассказывать что-нибудь такое, чтобы раздразнить ее, вызвать на резкость.
Она не скрывает, что не имеет желания разговаривать с ним, но он этого будто не замечает.
— Лита, ты не спишь?
— Нет.
— У вас большая семья была?
— Отец, мама и я.
— Значит, ты единственная? Оно и видно. Изнеженная.
— С чего вы взяли, что я изнеженная?
— А нас в семье пятеро братьев выросло. И жили мы первоначально все вместе на заимке. Заимка эта километрах в семидесяти от Кожевникова. Жили, горя не знали, но и работали, как звери. Восемь лошадей держали, мельницу водяную, коров голов пятнадцать, маслом торговали, махорку выращивали. Все у нас было: мяса любого вдоволь, самогонку гнали, только мне, дураку, на заимке не поглянулось. Кругом лес да комар. Скучно показалось, да и с братьями не поладил. Они без всякой меры хозяйством занимались. На покосе и дневали и ночевали, если дрова резали, тоже домой не заявлялись, так в балагане и пропадали, пока саженей сорок не поставят. Опять же торговали дровишками… И вбилась мне в голову дурацкая мысль — портняжеским ремеслом овладеть, чтобы независимо ни от кого свою копейку иметь. Глупый был, молодой. А того не думал, что в городе за каждый пустяк денежки выложи. С девкой в субботний вечер в Буфсад не пройдешься без этого самого. Добрая девка — не меньше рубля. А на заимке все свое, даже власть своя. Законов не знали. Дела, какие возникали, никого разбирать не приглашали — сами, как умели, управлялись. Как сейчас помню один случай, шибко смешной.
Захар Захарыч так живо вспоминал прошлое, что не удержался, захохотал. Просмеявшись, опять стал рассказывать:
— Попросилась к нам ночевать побирушка. А мать у нас добрая была, божественная такая. Постелила ей на полу в кухне. Перед сном напоила, накормила, все честь честью. Только утром просыпается, а побирушки той нет. Хватились — старшего брата сапоги потерялись. Хорошие сапоги были, яловые. Что делать? Брат говорит мне: «Захарка, седлай коней!» Оседлали пару жеребцов — и вдогон. Настигли! Она было с дороги в тайгу, так куда там — от коней не уйдешь. И сапоги при ней. С испугу даже не кинула, так и стоит с ними в руках. Заплакала, встала на колени и молит, чтоб простили. Стали мы думать, что делать с ней. Убить — никому никакого интересу, да и грешно вроде. Брат и говорит ей: «Раздевайся!» Она заупрямилась было, мы как взяли ее в два кнута, сразу шелковая сделалась. Собрали мы все ее шмутки, брат встал на седло и привязал все это на сук, на сосну. Она в ногах валялась, делайте, говорит, со мной что угодно, но только не это, дайте наготу прикрыть. А брат говорит ей: «А когда сапоги брала, ты о чем думала?» А гнус, я вам скажу, — дыхнуть нельзя… Хлестнул ее брат напоследок раза два и уехали… Вот те и суд…
Читать дальше




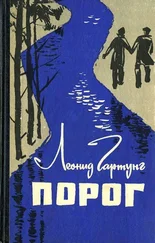







![Леонид Гартунг - Нельзя забывать [повести, сборник]](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-thumb.webp)