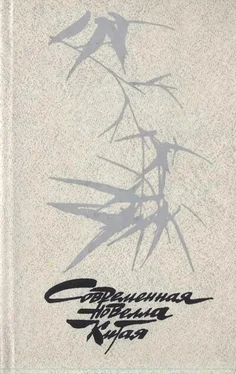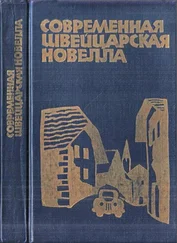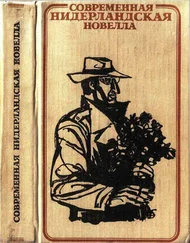— Так поздно, а на улице еще торгуют цветами? Не верится, — произнесла твоя мать.
— Я сам был удивлен! К тому же серебряную иву уже несколько лет вообще не продают.
Вы заговорщически переглянулись, покачали головами и сказали, что я наверняка приобрел букет заранее, еще днем, и велели мне сознаться. На самом деле днем я не собирался выходить и явился к вам, движимый внезапным порывом. Но чтобы доставить вам удовольствие, я покривил душой и «признался».
Крохотная лампочка светила так тускло, что ветки были почти неразличимы, и казалось, будто сережки висят прямо в воздухе. Это вызвало у меня какое-то странное чувство.
И у тебя тоже:
— Если убрать ветви, цветы просто повиснут в воздухе. Вот здорово!
Общность ощущений — самое трудное и самое радостное. Я произнес первое, что пришло в голову:
— Это доступно лишь живописи.
Позже я подумал, что мне удалось выразить сущность живописи. Искусство стремится к идеалу, как бы пренебрегая действительностью, но в основе его лежит не идеал, а реальность.
На квадратном столике стояло блюдо капусты, тушенной с прозрачной лапшой, несколько маринованных яиц, две-три сваренных на пару колбаски, да тарелка пельменей с начинкой из порея — вот так, как говорится, с пустыми руками, вы встречали Новый год, долгий и пустой. Ты сказала, что вина нет, и налила мне в рюмку горячей сладкой воды. Оказалось, что у вас всего две пиалы, и ты наполнила рисом белую фарфоровую чашку. Это хорошо, это рождает чувство близости. Мне когда-то приходилось бывать на приемах и банкетах, но теперь я об этом забыл.
Я умолял тебя сыграть хоть одну пьеску — только сегодня, ради Нового года. Мне было известно, что мать не разрешает тебе притрагиваться к пианино, но мне по секрету ты сказала, что часто тайком садилась за инструмент. Сначала мать, узнав, била тебя линейкой, так что руки распухали. Но однажды, придя домой, она остановилась у дверей. Видимо, что-то в твоем исполнении тронуло ее сердце, и она больше тебе не мешала. А если, возвращаясь с работы, слышала звуки пианино, стучала в дверь, и ты сразу закрывала инструмент. Потом вы обе делали вид, что ничего не произошло.
Мне потребовалось немало мужества, чтобы попросить тебя сыграть. Но я давно хотел этого и только ждал удобного случая. Атмосфера того вечера показалась мне вполне подходящей; я исполнился решимости распахнуть эту наглухо закрытую дверь.
Застигнутая врасплох моей просьбой, ты смотрела на мать, широко раскрыв глаза.
— Что же, сыграй.
Неожиданными были слова матери, но еще более неожиданным ее спокойный тон. Тогда и ты успокоилась и села за пианино. Почему она сегодня совсем другая, подумал я.
То ли благоговея перед таинством музыки, то ли скованная смущением от того, что впервые играла перед матерью и передо мной, ты несколько раз сбивалась, исполняя «Молитву девы». Ты то и дело встряхивала головой, так что косички прыгали по твоей худенькой спине, и время от времени глубоко вздыхала, стараясь унять волнение своей плоской груди. Под конец ты совсем запуталась и остановилась, не могла вспомнить, что дальше, и, повернувшись ко мне, улыбнулась виноватой, полной глубокой печали улыбкой. Да, не следовало просить тебя играть.
— Прежде эту вещь она играла довольно прилично, — мать обращалась ко мне, но говорила ради тебя.
Я поднял рюмку со сладкой водой — она давно остыла — и сказал:
— Поздравляю с предстоящим восемнадцатилетием. Уже взрослая девушка!
— И тебя поздравляю… Сколько тебе исполнится в будущем году? — Было видно, что ты еще не совсем успокоилась.
— Ты что, рассчитываешь меня догнать? Не выйдет. Я всегда буду на двенадцать лет старше тебя. Так же как твоя мама на двенадцать лет старше меня.
Мы все засмеялись, облегченно и радостно. Вдруг твоя мать подняла рюмку:
— За счастье тех, кто на двенадцать лет моложе, и тех, кто на столько же старше! — Она впервые при мне пошутила, даже ты удивилась.
Самое время, подумал я.
Я оставил рюмку, поднялся, подошел к остановившимся часам и снял их со стены. Вы обе изменились в лице, а ты даже тихонько охнула. Мне стало жарко, в голове появилось ощущение легкости — очевидно, сказывалась выпитая дома водка. Во что бы то ни стало я должен был настоять на своем. Не отрывая взгляда от твоей матери, я дотронулся до стрелки, застывшей, как могло показаться, чуть не сто лет назад. Ось заржавела, и двигать стрелку пришлось с усилием. Затем со скрежетом завелась пружина, внутри корпуса послышалось «тик-так», и эти звуки наполнили комнату. Ожили стрелки, определяющие ритм нашего быта, всей нашей жизни. Разумеется, ты поняла смысл происшедшего. У вас обеих заблестели глаза, и я поспешил отвернуться. Не хотелось видеть, как вы опять будете сдерживать слезы, — а быть может, я сам боялся заплакать?
Читать дальше