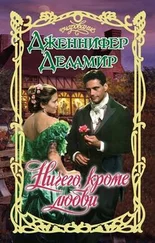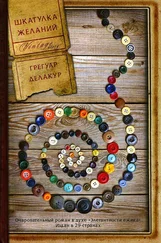Я у тети Анны. В очень красивой комнате окнами в сад. Маленький домик в старом Лилле. Рано утром мы поехали в Камбре, к Колетт. Она сидела и не дрожала больше. В ту самую минуту, когда дедушка умер, ее руки упали на колени, как два гнилых плода. Губы сомкнулись и больше не жевали. Голова тихонько склонилась набок и перестала трястись. За один час волосы ее окончательно побелели. Точно маленькая фата невесты. И я, кажется, поняла, отчего она дрожала: это жизнь дедушки еще дышала в ней, а теперь не было больше дыхания, только безропотная обреченность. Неподвижное горе. Тяжелое, как камни. Она обняла меня своими вялыми руками. И держала так долго. Потом она сказала нам, что последние недели были ужасны, он уже не мог съесть даже дольку мандарина; она выдавливала их над его ртом, сок тек по губам, по подбородку, и язык был не в силах его слизнуть. Он совсем ничего не весил. Невесомый груз сожалений. О чем сожалеют недостаточно любившие, когда уходят? Он больше не узнавал ее. Его глаза не открывались, но продолжали плакать. Оплакивал ли он то, что сделал мой отец? В эти последние недели Колетт трясло, как никогда. Отчаянно, с ураганными жестами, словно она пыталась подпитывать динамо-машину, сохранявшую искру жизни в дедушке. Ее жестикуляция нанесла дому большой урон. Все утро мы с тетей Анной убирали, отмывали осадок медленной смерти, собирали осколки жизни, воспоминания. В этом беспорядке я нашла открытку от моего отца, датированную летом 1983-го. Они с тетей Анной были в лагере в Альп-д’Юэз. Ему было тринадцать лет. «Прости, что я был злым с тобой, – написал он Колетт, – я постараюсь, я сделаю над собой усилие. Но все равно ты не мать, ни моя, ни моей сестры». Я никогда не могла представить себе отца тринадцатилетним, у меня в голове не укладывалось это его детство, умершая сестренка, другая, говорившая наполовину, ушедшая, сгинувшая мама. И Колетт в пылу ее гнева, Колетт в ее страдании, уже тогда, ибо быть всего лишь в порядке вещей больно.
Вечером тетя Анна повела нас всех в ресторан. Дядя Тома присоединился к нам. Колетт почти ничего не ела, много плакала и прятала лицо в салфетку. Мне было больно за нее, потому что она добрая. Леону она была как мама. Сразу примчалась в ту страшную ночь. Когда меня увезли на «скорой» в больницу, когда мама трахалась с каким-то мужиком в Ницце или в Париже, когда наши жизни рухнули.
Время уже позднее, но я все-таки позвоню Саше. Потому что сейчас чувствую себя фигово.
Только что я прошла мимо нашего бывшего дома. Новые жильцы высадили цветы на окнах второго этажа. Ты не поверишь, Саша, это гиацинты. Нахлынули воспоминания. Отец. Мама. Мы все. Кусочки детства. Как маленькие детальки пазла. Никогда не знаешь, какая картинка получится в конце, но хочется ее увидеть. Ради этого мы росли, хотели вырасти поскорее. Я подумала, что счастье – такая штука, его понимаешь только после; ты никогда не знаешь, что счастлив сейчас, не в пример боли. С тех пор как я здесь, у тети Анны, мне хочется счастья для себя. Покоя. К чему бы это? Сегодня я позвонила психологу, чтобы об этом поговорить. Об этой неожиданной потребности водвориться в свою семью, на свое место. Это хорошо, сказал он, вы хотите жить тем, что вы есть. А не тем, что вы пережили. Наконец-то. То, что я, как он говорит, пережила, всегда вызывает сочувствие, печаль, брезгливость, презрение. Помню, как один дебил в классе в прошлом году назвал меня Фотошопом. Я ничего не ответила. Дебилизм – он не лечится репликой. И вообще не лечится. Я спросила тетю Анну, знает ли она, где мой отец. Она удивилась. А что?
Надо ему сказать, что его отец умер.
Интересно, будет ли он грустить. Я не знаю даже, буду ли грустить я. Завтра похороны.
Погода была суперская. Наверно, поэтому пришло много народу. Полно вдовушек и старых дев, сказала мне тетя Анна. Клиентки из Рема, Жанлена, Сент-Обера, тех времен, когда мой дедушка был превосходным химиком, любимцем этих дам . Я не могу представить, после того как увидела его мертвым, изъеденным и высосанным изнутри, что он мог быть так обаятелен, что по нему столько вздыхали. Почему же бабушка так грустила, что ушла от него? И даже бросила своих детей? Несколько человек сказали о нем много хорошего. Колетт хотела прочитать отрывок из «Маленького принца», но не смогла, так плакала. Ее слова утонули в слезах. Потом были поминки в кафе рядом с москательной лавкой, где он работал и любил посидеть там время от времени. «Кир», пирожки, печенье-макарони. От похорон разыгрывается голод, голод разыгрывается от пустоты. Нескольких человек я узнала. Безликие фигуры. И вдруг – он. Шок. Он набрал двадцать кило. ФФФ. Друг детства моего отца, даже его самый лучший друг. Он иногда делал нам подарки. Говорил, что всегда готов помочь. Врал, как все взрослые. Я смотрела на него, пока наши взгляды не встретились. Не сказать, чтобы он ко мне кинулся, даже попытался уклониться от встречи, я отлично знаю, почему. Я все-таки подошла к нему. Повисла долгая пауза. Он выпил два «Кира» один за другим. Залпом. Его жена смотрела на него злыми глазами. А потом он попросил у меня прощения. У меня. «Прости, Жозефина, прости меня, что бросил твоего отца после того, что он натворил, прости, что не был ему другом, настоящим другом до конца, что даже не пытался узнать о тебе». Он сказал, что ему стыдно. Семь лет стыда, семь лет несчастий. «Я испугался. Меня тошнит каждое утро. Я гажу кровью. Пальцы не гнутся, не могу даже руку пожать. Мое предательство убивает меня, девочка, дружба – она ведь нужна в дни гнева, в дни безумия. Ярости. Жизненных бурь. Мне его не хватает, твоего паршивца-отца. Не хватает его трусости. Она ведь была на самом деле лишь безграничной и робкой любовью к жизни. Я пью горькую с той страшной ночи. С самого утра я думаю о нем и пытаюсь его утопить. Травлю себя. Медленно убиваю. Я не могу себе простить, Жозефина, и ты имеешь право меня презирать, плюнуть мне в лицо. Я плохой человек. Дерьмо».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу