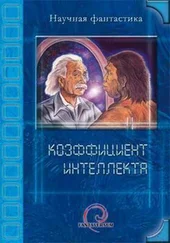Полли повернулась к нему. — Я ведь серьезно, — сказала она. — Судите сами, полюбила какого-то худосочного белого болвана. А что это ей дало (тоска по родине в холодной Англии, оспа в двадцать лет) и что это дало нам? — Она снова обвела вокруг себя рукой, словно кухня, знакомая ей с юных лет, — уголок дома, простоявшего каких-нибудь сто лет, — и была этим разоренным миром.
Роб не нашел, что ответить.
Она снова взялась за посуду. — Вы меня извините, — сказала она. — Я хотела быть веселой, обещала себе встретить вас с улыбкой. Дело в том, что у меня недавно появилось время присмотреться, что к чему. Собственно, оно всегда у меня было: у бездетных женщин времени предостаточно, и увидела я лишь одно: люди сами себе портят, принимая неудачные решения.
— Вы говорите о Покахонтас или обо мне? Обо мне? — Роб больше не смеялся.
— И о ней, и о вас, — ответила Полли, — но главным образом о Полли Друри, мисс Маргарет Джейн Друри.
— Почему?
Она не обернулась, но ответила: — Ну как же! У меня был свой дом, доставшийся мне от покойной мамы. Я могла бы остаться там.
Роб не понял. — В Вашингтоне?
Полли кивнула. — Так нет же, я его продала, отказалась от него, не задумываясь.
— Зато теперь у вас есть этот дом.
— А вот и нету.
— Но ведь я же писал вам, Полли, и говорил еще тогда в апреле, что и я, и Хэтти, и Хатч у вас в неоплатном долгу за вашу доброту к отцу.
— Я здесь жила еще до него.
Роб сказал: — Знаю. Это тоже входит в наш долг.
— Что вы знаете?
— Простите?
— Вы сказали: «знаю». Что именно вы знаете?
— Что вы работали здесь у деда, ухаживали за ним до самой его смерти; что вы создали семейный очаг для Форреста, когда мама бросила его; что вы скрасили ему жизнь.
Когда Роб заговорил, она, не домыв посуду, повернулась к нему. Тщательно вытерла руки, подошла к столу и села рядом с ним. Взяла солонку и в течение последующего разговора вертела ее в узких красных руках, помешивая в ней изредка пальцем, подбирая белые крупинки соли и отправляя в рот во время пауз.
— Вы действительно знаете это? Ну-ка, скажите честно.
Роб сказал: — Да! — Так оно и было. Остальное сводилось к догадкам. — Вы сами рассказали мне, когда я появился здесь в первый раз.
— Это еще не все, — сказала она и продолжала сидеть, рассматривая свои руки, не глядя на него (он видел ее макушку, чистые волосы, до сих пор каштановые, лишь продернутые седыми нитями). — Началось все давно, когда вас и на свете еще не было. Я приехала сюда, покинув родной дом, из любви, как я считала. Может, и так. Вы не видели Роба. Даже больной, он был неотразим — для меня, во всяком случае (и скажу, не хвастая, для многих других до меня). Может, и он любил меня. Он умер здесь, вон в той комнатке, — она указала куда-то назад, у себя за спиной. — Там была наша спальня. В общем, там мы жили; а умереть, что ж, можно и на улице. В чем я уверена — он был благодарен мне. Затем приехал ваш отец, хоронить его. Я уже рассказывала вам обо всем этом в первый ваш приезд, и, по-моему, я сказала вам, что у Форреста уже была тогда здесь работа. Это не совсем так. Он устроился только на следующий день после похорон — двадцать четвертого февраля тысяча девятьсот пятого года. Три дня я пробыла с Робом одна — он лежал на своей кровати. Печку я почти не топила, и вы, конечно, представляете, что я просто с ног валилась от усталости, когда приехал Форрест и занялся организацией похорон. Очень скромные были похороны, только нас двое и священник, да еще один незнакомый старик. Форрест хотел дать объявление в газету, но я его отговорила: мол, у Роба долги, и недоброжелатели, которые у него имелись, еще натравят кредиторов на Форреста. Но этот старик все-таки явился — маленький, красный, как раскаленная печка (а холод такой, что могила насквозь промерзла). Мы с ним не разговаривали, но он простоял всю заупокойную службу, потом подошел ко мне с улыбкой, а у самого слезы на глазах. «Узнаете меня?» — говорит, я ответила: «Извините, нет». Он сказал: «А ведь мы с вами знакомы. Я — Уилли Эйскью, кочегар. Когда Роб машинистом работал, мы вместе приезжали в Брэйси в общежитие к вашей мамаше. Я знал, что вы ему верной подругой будете». Я ничего не поняла, ну решительно ничего, но Форрест понял и заговорил со стариком, поблагодарил его за то, что он пришел (его священник пригласил как старейшего друга Роба). Он решил, что я Анна — жена Роба, ваша бабушка, которая лет за двадцать до того умерла. А мне было восемнадцать, хотя в то время я старше своих лет выглядела). Когда мы вернулись, я приготовила Форресту обед, и тогда же, не выходя из-за стола, он посмотрел на меня и сказал: «Если бы я решил поселиться в этом доме навсегда, сколько времени вы могли бы пробыть здесь?» — «Да хоть всю жизнь», — ответила я, и так оно и вышло. До сих пор, по крайней мере.
Читать дальше