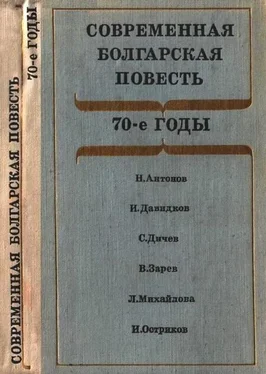— Не отклоняйтесь от предмета, Миллет, не то как бы я не повел опять речь о русской водке.
— Извольте! Я никогда не отрицал своих симпатий к русским. Если человечность все еще что-то значит в нашем безумном мире, она состоит прежде всего в самоотрицании, в готовности пожертвовать собой ради истины.
— Тысяча чертей, Фрэнк! Вы смешите меня этой пасторской проповедью! Неужто вы и впрямь полагаете, что люди, подобные капитану Бураго, имеют в виду эту пресловутую истину?
— Да, — уверенно отвечал Миллет. — Возможно, вам довелось увидеть в этих людях лишь внешнюю и смешную сторону, но я этих людей знал! Да, это и подкупало в них — никаких громких фраз, все просто, обыденно… Однако пора, пожалуй, приступить к самому рассказу.
— Давно пора!
Фрэнк продолжал, но уже с меньшим пафосом:
— Был январь этого года. После недолгого потепления зима вновь вступила в свои права, и Фракийская равнина (она расположена в южной Болгарии) тонула в снежных туманах.
Плевна к тому времени уже пала, армия Гурко перешла Балканы, и София, нынешняя столица страны, была освобождена. Случилось так, что за несколько месяцев перед тем я присоединился к этой победоносной армии. То обстоятельство, что я не сидел в ожидании известий в тылу, а предпочел собственными глазами наблюдать за сражениями, создало мне некую довольно лестную популярность. «Наш художник» — именовали меня, и мне сейчас трудно объяснить вам, как много значили эти слова для человека, прибывшего в эту неведомую страну из-за морей и океанов. Тут главное — в ощущении. Я не чувствовал себя иностранцем. Офицеры, солдаты, местное население, ради которого и велась война, и, если желаете, даже неприятель, который упорно обстреливал нас, а затем обращался в бегство либо попадал в плен, — вся эта жизнь в ее многообразии стала и моей жизнью. Быть может, лишь мои рисунки и картины могут дать хотя бы приблизительное представление о ней. Мишель верно сказал — то был особый мир, и я, будучи хотя и наблюдателем, принадлежал к нему.
Я уже упомянул о том, что зима начала свирепствовать с новой силой. Это затрудняло передвижение наших частей. Накануне мы взяли Татар-Пазарджик, и всю ночь солдаты помогали жителям гасить пожары — наследие, оставленное городу армией Сулеймана, отступившей к Пловдиву…
— Не забывайте, что я находился при этой армии! — неожиданно вмешался Барнаби с явным желанием внушить недоверие к рассказу Фрэнка.
— Как можно! Вы тоже были поджигателем? — мгновенно вернула удар невеста художника.
— Не перебивайте! Не перебивайте рассказчика! — запротестовали остальные.
Фрэнк продолжал:
— Излишне говорить о том, что люди были изнурены недоеданием, недосыпанием, холодом. А через день-два ожидалось решительное сражение. Пятидесятитысячная армия Сулейман-паши преграждала нам путь к Пловдиву, самому крупному городу Болгарии, и нам предстояло…
— Минутку, Фрэнк! Простите, что я вновь прерываю вас. Но в интересах истины: турок было сорок восемь тысяч семьсот девяносто три!
— Вы становитесь мелочным, Фрэдди!
— Эти цифры были сообщены турецким главнокомандующим на последнем военном совете. Он любил оперировать цифрами, и я не могу не отдать должного его скрупулезной точности.
— Хорошо, пусть так! Нам предстояло сломить заслон из сорока восьми тысяч семисот… и сколько там? Ах да! …семисот девяноста трех поборников Сулеймановой стратегии. Я, разумеется, не включаю в их число английских советников. Полагаю, о них расскажете вы, Фрэд, когда подойдет ваш черед… Итак, рано поутру командующий Западной русской армией генерал-адъютант Гурко (у него было обыкновение вставать раньше всех) приказал частям авангарда занять левый берег Марицы — так называется тамошняя река, — в те дни полноводной, не скованной льдом. Гурко сам выступил с авангардом. Не желая отставать от событий, последовал за ним и я.
Светало, но солнце еще не успело рассеять тьму. Только туман постепенно бледнел. Он был похож на мастику, о которой вы тут недавно говорили, Фрэд, — помните? Стоит капнуть в нее воды, она становится молочного цвета. Так вот… Я ехал верхом, беседуя с князем Церетелли, одним из адъютантов Гурко. Сравнительно молодой, он тем не менее служил перед войной консулом в Адрианополе и, следовательно, был знаком с местностью и местными нравами. Кроме того, Церетелли участвовал в комиссии, которая расследовала зверства турок при подавлении крупного восстания болгар в районе Пловдива, — материалы этого расследования благодаря корреспонденциям моего покойного друга Макхэгана стали призывом к мировой совести. Об этом и беседовали мы с князем Алексеем. Потому что наконец приближался черед Фракии, заслуживавшей свободы более, чем остальные болгарские земли. И еще потому, что где-то перед нами, за пеленой тумана, лежал Пловдив.
Читать дальше