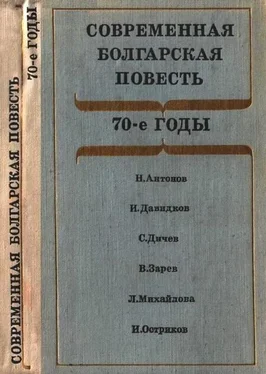— Я хочу танцевать еще, господин… — сказал он на ломаном немецком языке. — Я знаю еще танц, красивый танц…
В это мгновенье взгляды Роземиша и Сиракова встретились. Ирония была написана на лице капитана, прислонившегося к столбу. Как ни странно, Роземиш жестом пригласил его к себе и даже подтащил стул, когда Сираков, с усилием раздвинув толпу, вошел в круг. Минуту-другую Роземиш старался показать, Что ему тяжело из-за происшествия с бочками и позора с протоколом, но он сразу же забыл обо всем при виде бутылки, с которой Сираков снял газету. Более того, Роземиш похвалил напиток и выразительно намекнул, что с удовольствием хлебнет. Он, который не пил и не умел пить!
«Труслив, но сговорчив», — отметил по привычке Сираков.
Он налил в стакан Роземишу, налил себе и одним духом выпил. Жидкость остро обожгла, слабостью растекаясь по телу, и помещение, наполненное шумом и дымом, вдруг стало удаляться, растворяться. Между поредевшими зеваками возникло усатое лицо Хризопулоса, стоящего за стойкой. Грек смотрел на Сиракова с деланным безразличием подстерегающего кота.
— Я знаю танц… — умоляюще напомнил о себе танцор.
— Что ж, посмотрим! — великодушно разрешил Роземиш.
У него еще оставались два ломтика хлеба.
Оборванец подал знак музыкантам, порывисто воздел руки и согнул их в кистях. Теперь он смотрел на пальцы своих босых ног, словно готовился перескочить невидимое препятствие. Его ветхая рубаха, поднявшись на плечах, оголила худые бока. Оркестр заиграл, и танцор начал подпрыгивать на месте…
— Дивный напиток, — заключил Роземиш, осторожно отпив из стакана.
Однако Сираков не счел нужным заметить эту любезность. Его охватило желание пить, напиться, и он залпом осушил второй стакан.
До его слуха как бы издали долетало досадное, назойливое бормотание Роземиша:
— …признаюсь вам, капитан… искусство… исключая еду и напитки… это удовольствие из удовольствий… пластика… настоящее, полное удовлетворение личности… глубоко переживая… пища для души… возвышенно… никогда не следует забывать об искусстве… но так ли?
После этого он минуты две с видом знатока наблюдал подпрыгивания измученного танцора. Ребра несчастного ходили ходуном под драной рубахой, он дышал открытым ртом, как рыба, вытащенная из воды, и в выражении его лица проступала не только усталость, но и испуг.
Перестав плясать, он схватился обеими руками за грудь.
— Этот танц нихт гут [19] Танец нехорош (нем.).
, — сказал Роземиш, нарочно коверкая слова, чтобы его все услышали и поняли, как тонко он разбирается в таких вещах. Танцор виновато улыбался. По лицу его было видно, что он голоден и устал.
— Маленькие дети, господин… — пробормотал он.
— Оправдания!.. Вы слышите, комендант! Эти люди всегда оправдываются. Они постоянно хитрят, они психологически опасны.
— Чем вы занимаетесь? — быстро по-гречески спросил танцора Сираков, держа в руке стакан.
— Я? Был учителем. Этим и занимался, — ответил танцор таким тоном, будто речь шла о чем-то неприятном.
Сираков плеснул остаток рома в рот.
— Для учителя, — вмешался Роземиш, — этот танец должен быть лучше. Бессер! Филь бессер! [20] Лучше, гораздо лучше (нем.).
— Хватит, Роземиш! — оборвал его Сираков. — Это не танцор, это голодный человек!
Роземиш обернулся, изумленный не столько словами Сиракова, сколько необычно громким голосом, которым они были сказаны.
— Правильно, — однако согласился он. — Но среди них есть и таланты! Хлеб ободряюще действует на дарование. Если вы читали, все великие музыканты были бедными и голодными, и то, что они создали, они создали благодаря чьему-то высокому покровительству — благородных графов, баронов и прочих высоких лиц.
И неизвестно зачем добавил, что сам он перед войной конструировал детские игрушки, имел патент, за который один инженер в Вуппертале предложил ему весьма крупную сумму и сотрудничество.
— К черту ваши игрушки, Роземиш! — мрачно произнес Сираков, усаживаясь поудобнее. Положив локти на стол, он поднес ко рту стакан.
Хитрая усатая физиономия Хризопулоса за стойкой раздражала его так же, как и круглое, словно гладко выбритое, а в действительности лишенное растительности лицо Роземиша.
Немец по-своему выразил обиду:
— В Баварии меня называли Розе-мих — и это было правильно.
Внезапно Сираков почувствовал, что его охватывает волна безудержного, истерического смеха, и он захохотал:
Читать дальше