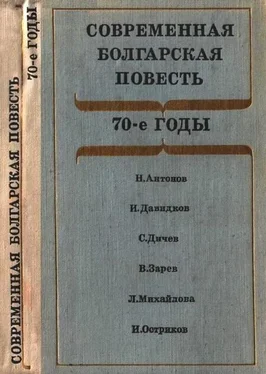Затем добавил спокойнее:
— Вот что я вам скажу — с нами кончено, счет подан, итог подбит! Списаны мы, так и знайте! Смены не будет, начальство поволынит день-другой, время пройдет — и опять нас погонят. А море покрыто минами, что ряской. Раз — и ищи нас? Э-эх, салаги! Мужской монастырь, арестанты с медалями под подушкой, пустые головы! Ги-та-ры! Такова наша удача: раз в тыщу лет море в суп превращается, а мы как раз в этот день шабашим, ну а если нет, если опять в море, так ложек с собой не взяли… В спасательном костюме ложись, в спасательном костюме вставай, пролежни у меня уже от пробки, такие, как у моего деда, когда он лежал после операции… С ними и на тот свет отправился… Не моряки мы, нет!.. Вот Даниил Киряшки был моряк. Даниил — другое дело! Здесь такого человека нет!.. Где сейчас Даниил? В тюрьме. Что сказал он швабам, когда вышел закон о гражданской мобилизации? Он им сказал: «Я вас не признаю, горба для вас у меня нет, внаем его не сдаю!» Сунули его в каталажку, а нас пугают: коммунист был! Коммунист! Для господ это теперь хуже разбойника… Э-эх, и почему мы не такие, как Даниил, ребята, почему мы глупые, зеленые?.. Налей, вошь! Чувствительно налей, тебе говорят!
— Потому что Даниил был холостяк, — произнес Теохари, осушив банку. — А мы нет!
— Потому что Даниил был мужчиной, а мы нет! — эапальчиво возразил ему Жельо и свирепо глянул на него. — Какая польза для детей, когда они нас не увидят? Скажите, ну, какая польза? Я вас спрашиваю!
Стало тягостно от этого вопроса, на который никто не мог ответить. Илийчо сосредоточенно дул в окарину, один за другим матросы затянули песню, которую всегда вспоминали в трудные минуты:
Капитан, капитан Камуэла,
Пришвартуйся к соседнему причалу,
Заберем с собой девушку сначала.
Капитан, капитан Камуэла…
Мелодия была грустная, выразительная, она напомнила им о былых временах, когда плавали без страха, были молодыми и сильными, любили женщин и женщины их любили, ходили по палубе по-хозяйски, вразвалку и никакие немецкие часовые не торчали у них над головой… Они жалели о том времени и еще о том, что не знали, как распорядиться силой, которая у них оставалась; сокрушались, что не изменить им свое положение.
На глазах многих появились слезы, и припев зазвучал как угроза:
Камуэла, Камуэла, ел-ла… ел-ла… ел-ла!
За дверью послышался шум.
— В чем дело, господин старший! — нарочно громко крикнул матрос, которого выставили сторожить. — Не смей толкать меня, ну!
Быстро спрятали банки, бутыль, поднялись. Вошел Люлюшев, виновато улыбаясь.
— Добрый вечер, ребята, — поздоровался он, как будто давно их не видел. — Пойте, пойте… Красиво…
Жельо подступил к нему, положил ему ладонь на плечо.
— Поздно пришел, старший… — пробормотал он скороговоркой, но с затаенным недобрым чувством. — Иди спать! Или к начальству, а мы здесь простыв смертные. Мы здесь — корма, третий класс. Ты не нашей породы, валяй!
— Иди, иди! — смешно выпячивая грудь, вышел вперед и Мишок. — Тебе говорят!
Люлюшев, ошеломленный, отступал спиной.
Проводив его до дверей, вернулись и, расхрабрившись, подняли свои банки, запели громко, вызывающе:
Не хотим мы богатства,
Неволя нас гложет.
Нам свобода и братство
Всех денег дороже!
На другой день Люлюшев избегал Жельо, ходил с озабоченным видом, но в действительности он был испуган, чувствуя, что матросы настроены против него. Уже сам факт, что его накануне выставили из кубрика, говорил сам за себя, к тому же это был серьезный проступок, хотя и не зафиксированный в уставах и распорядке корабельной жизни. Вообще-то Люлюшев надеялся, что Жельо извинится перед ним, но плотник делал вид, что не замечает его, и держался так, словно ничего особенного не случилось.
Люлюшеву ничего не оставалось, как рассказать капитану Сиракову об этом «странном инциденте». Неизвестно почему, он верил, что Сираков не только возмутится, но и примет какие-то меры в защиту своего помощника.
Сираков же довольно равнодушно выслушал его доклад, напоминающий жалобу.
— Я давно вижу, что-то произошло на корабле, что-то изменилось, — как-то равнодушно говорил Сираков. — Все это началось с войной, а я здесь с первого ее дня… Тогда мы были в Латакии [17] Латакия — портовый город в Сирии.
, услышали о войне по радио, и с той поры все стали глядеть на меня с каким-то ожиданием и сомнением, словно это событие произошло не в Европе, а во мне самом и все будущее их зависит от меня. Я не мог, разумеется, ничего предпринять, это знал каждый, и все-таки они продолжали ждать от меня чего-то, и сомнение постепенно перерастало во вражду… Мы с вами сделаны из одного теста, Люлюшев, — с каким-то скорбным сочувствием вздохнул Сираков. — Они — из другого. Нам не поладить с ними до тех пор, покуда существует этот страх, то есть пока длится эта война, и они всегда будут думать, что мы все делаем специально им во вред! Они так далеко зашли в этой уверенности, что забыли даже простой факт: мы с вами тоже живем этой жизнью и тоже подвергаемся риску… После войны положение изменится… в чью-либо пользу, — с горечью добавил он.
Читать дальше