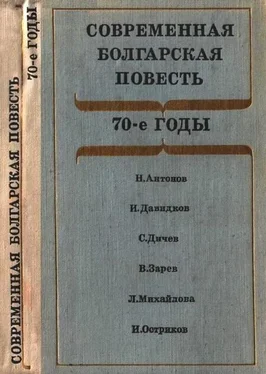Сираков пошел завтракать: кофе, поджаренные ломтики хлеба, конфитюр. Кофе входил в специальный паек немецкого командования.
«Матросы ненавидят меня и за то, что я пью кофе, как немцы», — подумал Сираков, пряча взгляд от вестового, который проводил его до дверей каюты.
Потом с докладом прибыл старший помощник: ему было года на два больше, чем Сиракову; на полголовы плешивый, в протертой на локтях и коленях форме, с приветливым выражением лица, но в приветливости своей он таил смесь покорности и грусти — результат неуверенности в себе. Говорил он протяжно и гладко. Звали его странно: Люлюшев [12] Качкин (от болг. «люшкане» — качка).
. Ходил он с неизменной папкой в руках, аккуратный, как канцелярский служащий. Сираков отметил про себя: «Не хватает только нарукавников — настоящий чиновник».
Однако он ценил способность Люлюшева докладывать обстоятельно, так что в большинстве случаев Сиракову не оставалось ничего другого, как сказать: «Хорошо. Согласен. Действуйте».
Сираков, разумеется, не подозревал, что подобные знаки одобрения его действий были единственной формой самоутверждения для Люлюшева — личности без воли и воображения, — он должен был видеть непосредственный результат своей работы, а ей он отдавался самозабвенно.
Так и этим утром Люлюшев поздоровался, улыбаясь, сказал «приятного аппетита, господин капитан», тактично сделал паузу и, когда Сираков кивнул, стал подавать корреспонденцию, докладные, удостоверения, расписки. Отказано в сене для быка, пот и записка с резолюцией от немецкого интендантства. И принять животное без соответствующего документа оно тоже отказалось.
— Хорошо, — сказал Сираков, не поинтересовавшись резолюцией, о которой шла речь.
— С быком нехорошо, господин капитан, — осмелился заметить Люлюшев. — Это такая морока для нас!
— Тогда возьмем да и зарежем его, — пошутил Сираков.
— О, ни в коем случае! — испугался Люлюшев, и Сираков отметил про себя, что и Роземиш отреагировал бы, наверное, в подобном случае именно так. — Потом не избавишься от нареканий, закон весьма строг. Я только сказал, что все это очень запутано — и сена не дали, и скотину не приняли.
— Дальше!
— Завтра разгрузят бочки с вином, и слава богу!
— Почему «слава богу»?
— Потому что… потому что матросы вечером опять пили, — почти сокрушенно сообщил Люлюшев.
— Вас они не приглашали?
— Меня? Да что вы говорите! Я ни капли в рот не беру. Я проходил случайно… впрочем, слышал, как они пели, — так могут петь только пьяные люди. Хотел их предупредить, что так нельзя… Но они спрятали все. Выставили и сигнальщика.
Сираков снова задумался о дистанции между командованием и матросами. Некогда она выражала признаки уставной почтительности, а сейчас… означала вражду. В самом деле, это была вражда. Матросы пили тайком — и не только потому, что вино было краденое. Было и еще нечто, что уловил Люлюшев: эти попойки тоже являлись одним из видов протеста против положения, в которое они попали, и против смертельного риска плавания, против разлуки с семьей, а сейчас уже и против того, что целую неделю они ждали смены, которой, наверное, так и не будет. Да, дело шло к тому, что всякий повод теперь усиливал эту вражду.
— Говорят, смены не будет, — поделился сомнениями Люлюшев, — и, с одной стороны, это их пугает, а с другой — они как будто злорадствуют — есть причина для негодования, брани! Просто какой-то психоз.
— Вы говорите — ругают. Кого?
— Ругают вообще, но, похоже, имеют в виду кого-то здесь, кого они считают виновным, все равно, виноват он или нет… меня… вас… или бак.
Бак — это были немцы. В этом Люлюшев проявлял крайнюю деликатность.
— Хорошо. Занимайтесь своими делами! — Сираков вдруг положил конец неприятному разговору.
Люлюшев проворно двинулся, не преминув с порога доложить:
— На сегодня опять назначил отбивать ржавчину.
— Хорошо, хорошо.
В сущности, уже весь корабль громыхал, так что едва ли был смысл докладывать о чистке. Да и не было ни капли краски — очищенное место замазывали тавотом. Но ржавчину счищали всегда — как и в мирные годы. Это был некий успокаивающий признак, которому Люлюшев придавал значение…
Сираков был в отличном расположении духа. Он не раз замечал, что после мучительной неудовлетворенности собой, иногда совершенно беспричинной, на него неожиданно находила такая же беспочвенная уверенность в себе и в благополучном исходе всех предпринимаемых им начинаний в его жизни. Сейчас, однако, он мог бы указать причины своего хорошего настроения, равно как и повода к резкой его перемене. Ему казалось: обретя уверенность, он снова занял на корабле то место, которое возвышает его над другими. В действительности никто не оспаривал у него это место, но присутствие немцев и недовольство матросов непрестанно нарушали его душевное равновесие. Теперь это равновесие было восстановлено. Пусть себе Роземиша занимает проверка бочек, пусть Шульц дует в свисток и выстраивает своих солдат, пусть матросы хмурятся! Насколько все, чему он придавал до сих пор значение, потеряло всякий смысл.
Читать дальше