— Это стоит любить, да.
Ей почудилась в его словах насмешка, и она вспылила:
— Конечно, вам это все чужое!
— Нет, что ты,— мягко сказал Громов.— Самое настоящее наше. Я за это воюю, ты за это жизнью рискуешь,— пожалуй, только мы с тобой это и заслужили.
— Ну ладно. Я тебе чаю сделаю все-таки.
Она пошла на кухню, зажгла газ под чайником и вернулась.
— Усов как питекантроп жил. Даже электрочайника нету.
…Потом они разговорились — он выложил кое-какие подробности первого года войны, она рассказала о патрулях, облавах, бесконечных предосторожностях, с которыми покидала убежище. Он начал догадываться о быте немногих ЖД, оставшихся тут; в сущности, ей нечего было бояться — Громов мало был похож на человека, готового сдать нелегала в обмен на ночной приют. Они занимались чем-то вроде диверсий, но сугубо ЖДовских, жалких, не слишком опасных: им до сих пор казалось, что в нынешней цивилизации все решают компьютеры. Хакерствовали, влезали в сеть, развешивали правду о военных действиях (то есть брали официальные сводки и переписывали наоборот) — все это никому не мешало, но разыскивали их, конечно, всерьез, как молодогвардейцев.
— Кстати,— сказал Громов со смехом.— Ты знаешь, что они договорились?
— Кто?
— Кто-кто, наши с вашими. Я от Бахарева слыхал, он теперь шишка. Раскидала нас судьба, Василь Иваныч.
— Как договорились?— не понимала она.
— Обычным образом. Наши с вашими. Договорная война.
— Этого не может быть,— сказала она с такой страстной убежденностью, что Громов устыдился собственного легковерия.
— А почему?
— Ваши еще могут. А наши никогда.
— Как же, как же. Ваши ведь чистые. Это наши за грош Родину продадут.
— Наши всякие,— сказала она.— Пойми, я не хочу сейчас наезжать… или что-то… Будем считать, что перемирие, два человека на голой земле. Я просто знаю. Наши могут быть плохие и хорошие, но они не будут договариваться.
— Видишь, я тоже думал, что наши не будут.
— Ты не понимаешь. Это в крови.
— А наша кровь — водица?— спросил Громов.
— Не знаю. Ваши столько раз…то есть никаких принципов, вообще. Угнетатель всегда — трус. Ваши, кроме этого, ничего не умеют.
— А ваши что умеют?
— Неважно.— Она хотела сказать что-то еще, но был барьер, которого в разговоре с чужими ЖД не переходят.— Наши не помирятся.
— А что они сделают? Переубивают друг друга? Вот мы с тобой сейчас вдвоем — что можем друг с другом сделать?
— Не знаю. Мы — другое дело, мы уроды. Выродки. А это… ну, оно должно как-то разрешиться. Не может так вечно быть. Кто-то из двух останется. Я же не говорю — переубивать. Пусть остальные уедут. Но надо как-то решить, потому что вечно это не бывает.
— Никогда так не будет, чтобы все уехали. Кто-то останется, вот как ты.
— Хорошо, останется, но тогда уже признает правоту победителя. Надо выработать закон, потому что иначе — это не жизнь. Пусть возьмет чья-то, чья-нибудь, но только чья-то одна.
— Слушай!— Он встал и подошел к Кате Штейн.— А не может быть такого закона, при котором мы как-то уживались бы? Я честно не знаю, самому интересно.
— Нет,— твердо сказала Катя Штейн.— Такого закона быть не может.
— Почему? Мы же с тобой уживаемся!
— Уже два часа целых уживаемся. Но это временно. И потом, всех же не сделаешь поэтами, да?
— Да какие мы поэты, к черту. Поэты были и все вышли.
— Нет, нет. У тебя было ничего себе. Вот это, про первую любовь.
— Откуда ты помнишь всякую дрянь?
— Помню вот. Ладно, ложись. Я сейчас постелю.
Она постелила ему на старом матрасе. Громов долго лежал без сна, смотрел на белый фонарь, яркий даже сквозь штору, на тени веток на стенах и потолке. Хорошо жить на первом этаже. Иногда далеко, на Ленинском, ревели машины ночных гонщиков. К Кате Штейн, так же без сна лежавшей в соседней комнате, Громов не прикоснулся. Солдат солдату брат, не более.
В половине седьмого утра он проснулся, взглянул на часы, оставил благодарственную записку и тихо вылез из окна, осторожно закрыв его.
— Надо платить за квартиру,— сказал отец.
Отношения с отцом были у Громова странные: отец и сын отлично понимали друг друга в главном и ничего не проговаривали вслух. Это было особенное целомудрие мужского взаимопонимания и дружбы. Теперь, увы, все выглядело подделкой — они молчали не потому, что хорошо понимали друг друга, а потому, что им нечего было сказать. Громов чувствовал, что глубоко на дне души отец понимает что-то и мучается, но собственная старость, слабость, привычка к заботе о собственном слабеющем теле мешают ему поговорить с сыном, как когда-то.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







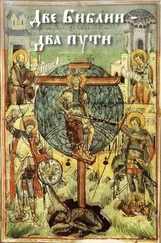


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

