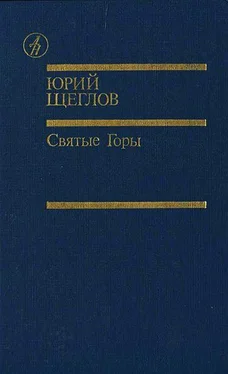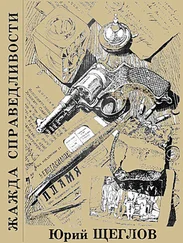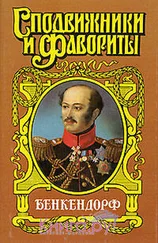— Юлия Паревская, — вылетело у нее.
Матка боска, еще одна ложь. Какая она Паревская, и вместе с тем она не могла не произнести фамилию Фердинанда.
— Постой, постой, — взмахнул ладонью кузнечик совсем по-русски, — ты не русская?
И вдруг Юлишка уже абсолютно сознательно солгала, в третий раз. Ей в то мгновение до смерти захотелось стать русской.
Это не была ложь во спасение. Это не была ложь во благо. Это не было невинной или святой ложью. Эта ложь как-то укрепляла ее связь с Александром Игнатьевичем и вообще с прошлой, довоенной, счастливой жизнью.
И она ответила:
— Нет, я русская.
И мир опять не перевернулся.
— Зачем тебе дорогая собака? Тебе ее питать нечем. У меня она будет сыта. Поиграй с ней. Приучи ее ко мне.
Да, Рэдда упрямая, преданная, выдержанная, такая же, как я, с гордостью подумала Юлишка.
— Ну что? Даришь собаку?
«Даришь — смылся в Париж!» — дразнился в подобных случаях рыжий Валька.
Юлишка молчала.
— Я тебе дам крупу, сахар, консервы.
Если бы кузнечик умел читать мысли, он бы прочел в голове у Юлишки, как на телеграфной ленте: уди-ви-тель-но-е пле-мя не-мцы. С необычайной легкостью они распоряжаются чужими вещами. Как непослушные дети. Переместили без позволения мебель, выкинули шкаф, погубили книги и вдобавок ни капельки не стыдятся выклянчивать подарки. А если им с достоинством отказывают, пытаются подкупить. Уди-ви-тель-но-е пле-мя!
— Ну, повелевай, чтобы она подошла. Повелевай! — И в голосе кузнечика скрипнуло нетерпение. — Как кличка?
— Рэдда.
— Рэдда? Англичанка?
— Английский пойнтер.
— Пусть будет Рэдда. Рэдда, Рэдда, — позвал он.
Собака рванулась — и сникла, рванулась — и сникла, спрятав морду в лапах.
— Она голодная, — нагло и глупо заявил кузнечик, — покорми ее, Маттиас, — и он жестом отослал навозного жука в кухню.
Рэдда могла не есть по нескольку суток, но в чужой миске пищу и не обнюхает. Умрет еще, испугалась Юлишка и сделала инстинктивное движение в сторону кухни, из чего кузнечик легкомысленно заключил, что через педелю получит прирученного пса. Ведь ему, гауптшарфюреру Хинкельману, случалось обламывать и не такие экземпляры. Все это у него было написано на физиономии — Юлишка безошибочно прочла.
— Ну ладно, расскажи мне тогда о своих хозяевах.
Кузнечик выдернул из ящика тумбочки пачку фотографий, стасовал их, как колоду карт, и непередаваемо ловким движением опытного шулера раскинул веером:
— Они?
Где он достал, проныра? Альбомы-то Юлишка сама положила в чемодан.
— Они, — удовлетворенно растянул рот кузнечик. — Они.
Он снова стасовал колоду.
Мелькнули светлая улыбка Сусанны Георгиевны, стриженая челка Сашеньки, высокий лоб Александра Игнатьевича, белый воротник Юрочки и еще что-то близкое, почти родное. Юлишке вдруг полегчало на душе. Сердце разжалось от сознания, что они, эти люди, не должны вот так просто, за здорово живешь, забыть ее и что они ее не забудут, никогда не забудут там, в неведомой эвакуации, в Северном Казахстане, на краю света. Лица улыбались с открыток добрые, довоенные, вон и моя панама, и Юлишка улыбнулась им тоже, как по утрам, за завтраком.
После падения Житомира Юлишка совсем было собралась попросить Александра Игнатьевича взять ее с собой — в эвакуацию.
Гибкое слово, похожее на болотную гадюку, всплыло в городе незаметно и не сразу.
— Эвакуация!
Постепенно права гражданства получила и эвакокарта. Но никто ее, впрочем, в руках не держал. Об эвакуации спорило все население дома напротив университета от мала до велика. И спрашивали друг друга: когда едете, куда? Признаться, что уезжают скоро, никто не желал.
Отступать, бежать — унизительно не только солдатам.
— Через месяц фашисты захватят город, — в первых числах августа, — мрачно предрекла Сашенька. — Мне Муромец объяснял — берут котлами, а наступают по трем направлениям.
— Что значит захватят? Кто им позволит? — возмутилась Сусанна Георгиевна. — Не сей панику, а то угодишь под трибунал.
— Никуда я не угожу, ни под какой трибунал. А двери твои взломают и выгонят тебя из твоих роскошных апартаментов, как собаку на мороз, — и Сашенька с не оправданной ничем злостью принялась молотить по спинке кресла. — Когда мы уедем? Апрелевы уехали, Кареевы уехали.
Телефон в кабинете не звенел сутками. Александр Игнатьевич из университета не подавал признаков жизни. Сусанна Георгиевна моталась по частям гарнизона с лекциями на литературно-исторические темы, в которых, используя художественные примеры, доказывала неумолимую обреченность военной машины фашистского вермахта, а по ночам она маялась в гостиной на тахте, жалостливо всматриваясь в портрет мужа, который, больной, она прекрасно представляла себе это, почерневший от усталости, в изорванном пиджаке, с треснувшим стеклышком очков, демонтировал лабораторию, глотая невидимые миру слезы. Всего три года назад Александр Игнатьевич, конечно же больной, почерневший от усталости, в изорванном пиджаке, с треснувшим стеклышком очков, в окружении армии чумазых слесарей оборудовал эту самую лабораторию новой аппаратурой, купленной специально для него во Франции за баснословную цену.
Читать дальше