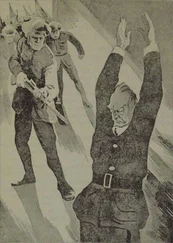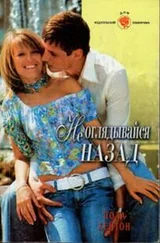Олени, когда я проходил мимо них, приподняв головы, настороженно скосили на меня тёмные, влажные, выразительные, умные глаза, а потом спокойно опустили головы снова к пряслу.
На кухне, сидя за столом, о чем-то нешибко, впрочем, громко спорили Юрка и Степан.
– Вожак в собачьей упряжке, выбрав направление, уже не оглядывается. Он бежит впереди и смотрит только вперёд. Все остальные – следуют за ним, потому что чувствуют в нём уверенность. А начни он озираться – всё, конец. Движение прекратится. А упряжка из стройной линии, вытянутой в одном общем стремлении к неведомой многим цели, превратится в кучу малу грызущихся между собой собак. Вожак потому и первый, что не оглядывается назад, – удивительно складно говорит Степан.
– Всё ясно, – примирительно отвечает Юрка. – Не оглядывайся назад – и ты всегда будешь первым…
«И – одиноким», – мысленно добавляю я.
– …Первым достигнешь любой цели. Слишком уж всё это как-то просто.
Чувствуется, что Юрке не особо хочется спорить.
– А в жизни всегда так – всё жестоко и просто, – настаивает на своём Степан. – И тут ещё вот в чём заковыка – в цели. Есть она у тебя или нет. Ведь надо точно знать, к чему ты стремишься!..
Судя по запальчивости, с которой говорит Хутунка, обычно немногословный, тут до меня произошло одно из двух: или спор был действительно нешуточный, принципиальный, зацепивший чем-то ороча; или выпили они уже не по одной-две стопки, а поболее.
Вообще-то для меня, во всяком случае, молчун Степан (иногда за день и слова из себя не выпустит) – фигура весьма загадочная.
Ороч по национальности, с детства отлучённый от кочевавших круглый год по тайге родителей и воспитывающийся в интернате «Для детей малочисленных народов», он после школы, как отличный ученик, был направлен в Ленинград. В Институт народов Севера. Блистательно окончил его, особенно преуспев в математике, вернулся в родные края и сам стал кочевать с места на место. То добывая идущую на нерест с моря в устья рек горбушу, то – пушнину, то – охотясь на разного зверя, ради ценной медвежьей желчи, кабарожьей ли струи или вкусного кабаньего мяса, когда сушённая тонкими ломтиками оленина начинала приедаться…
Сколько Степану лет – сказать трудно. Может, тридцать, а может, и шестьдесят. Когда он сильно утомлен – кажется стариком. Приободрится, отдохнёт, заиграют весёлые искорки в тёмных глазах, глядишь – мужчина в расцвете сил.
О своей учёбе в Ленинграде он вспоминает крайне редко и всегда – неохотно. Вспоминая же, ограничивается несколькими фразами, самая распространённая из которых: «Однако сильно большой город царь Пётр воздвиг. Народу много. Есть хорошие люди – есть шибко худые. И место для города – худое…»
По-русски, если хотел, мог говорить чисто, складно и правильно. А вспомнив о чём-то удивительном для себя – громко цокал языком. Но такие минуты у него были редки. Обычно же он всё делал молча, будто насупившись на жизнь, неохотно бросая на ходу одно-два слова. Словно знал какую-то, только одному ему известную, тайну, лежащую не на поверхности, и скрытую от глаз людских. Может быть, именно от этого он, что-то мастеря, почти всегда застенчиво улыбался.
Во время же общих разговоров, например, у костра, – он больше слушал, покуривая короткую трубочку – «носогрейку», отгонявшую своим летучим дымком таёжный гнус. Иногда молча покачивал головой, словно прокрутив чужие мысли и решив для себя – правильны они или нет.
Дым, выпускаемый им через широкие ноздри не сильно приплюснутого к лицу носа, проходил как через фильтр, сначала через его редкие, тёмные, кое-где с седыми волосками, усы, а потом уж поднимался вверх, обволакивая белым облачком задумчивое лицо.
По моим наблюдениям, только с Нормайкиным он был раскован. Мог с ним и поговорить, и даже выпить. Видимо, что-то давнее связывало их.
Это он – Степан, по просьбе Нормайкина, привёз нам собак. За чаем, в тепле зимовья, когда ороч остался ночевать, мы и познакомились, узнав от него только имя, да то, что завтра он на своих оленях отправится дальше, в верховье реки, почти до самого её истока…
Недели через две на обратном пути Степан снова под вечер заглянул к нам: «чай пить» да в тепле у печи переночевать, «а то всё – в нарте или у нодьи…»
В оба этих вечера он сказал, наверное, не более десяти фраз и то вдруг с откуда-то появившимся акцентом.
Где он живёт? Есть ли у него свой чум, дом, семья, дети? Этого мы так и не узнали. Если он не желал отвечать на какой-то вопрос, то просто пропускал его мимо ушей и молча сидел, будто камень-валун, не реагируя ни на что постороннее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу