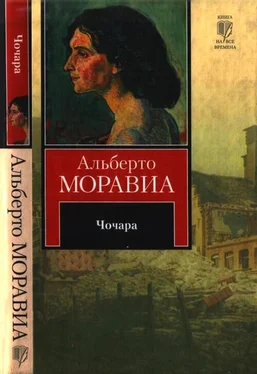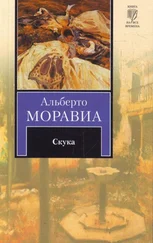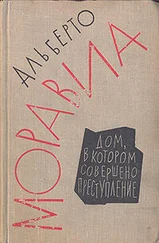— Не плачь, дочка… Северино скоро придет, и все будет в порядке.
Но жена Северино только качала головой и твердила:
— Знаю, не вернется он… Не прошло и часа после его ухода, как я это почувствовала.
Мы всячески пытались утешить ее, но она не переставала плакать и все время твердила, что во всем виновата она, потому Северино делал все это для нее и девочки, чтобы им хорошо жилось и они разбогатели, а она не остановила его и не помешала ему купить эти проклятые ткани. К сожалению, нечего нам было сказать ей, так как Северино не вернулся — ведь это был факт, а перед лицом фактов все добрые слова на свете ничего не стоят. Пробыли мы у нее весь день, успокаивая ее то так, то эдак, высказывая всевозможные предположения о том, куда исчез Северино; но она продолжала плакать и повторять, что он никогда больше не вернется. На следующий день — то есть на вторые сутки после исчезновения Северино — мы вновь пошли к ней, но ни девочки, ни ее не было дома: оказывается, на рассвете она посадила ребенка на плечи и спустилась в долину разузнать, что случилось с ее мужем.
Несколько дней мы ничего не знали ни о Северино, ни о его жене. Наконец Филиппо, привязанный по-своему к Северино, решил выяснить, что произошло, и послал за стариком крестьянином по имени Николо, который работать в поле уже не мог и обычно целыми днями прогуливался по «мачере», присматривая за детьми. Филиппо сказал ему, что просит его пойти разузнать о Северино, добавив: идти надо в местность «Уомоморто», где засели воры-фашисты. Николо сперва не хотел идти, но когда Филиппо обещал ему триста лир, этот старик, который ради денег полез бы в раскаленную печь, сразу же пошел седлать своего осла. Он сказал, что вернется на следующий день, а ночевать будет у своих родственников в соседней деревне, и наскоро сунул в переметную суму хлебец и кусок сыру. Попрощались мы с ним и пошли его проводить. Он сидел на своем ослике прямой как палка, в черной шляпе, с трубкой во рту, низко свесив по обе стороны свои негнущиеся ноги в чочах и белых обмотках. Филиппо крикнул ему вслед, что лучше всего обратиться к фашисту по прозвищу Тонто [7] Глупый, придурковатый (ит.).
, он, пожалуй, не самый злобный в этой банде. Старик сказал, что он так и сделает, и уехал.
Прошел этот день и половина следующего, и вот, когда уже начало смеркаться, на «мачере» появился старый Николо, ведя на поводу осла, а верхом на осле не кто другой, как сам Тонто. Когда они приблизились, Тонто слез с осла. Это был мужчина со смуглым худым лицом, заросшим щетиной, с меланхолическим взглядом глубоко ввалившихся глаз и длинным, уныло свисающим носом. Все его окружили; Тонто, видно, растерялся и молчал. Старик взял осла за узду и сказал:
— Немец забрал материю себе, а Северино послал на фронт — строить укрепления… Вот что с ним случилось.
Пробормотав это, старик пошел задать корм своему ослу. От удивления мы все окаменели. Тонто стоял поодаль в смущении.
Тогда Филиппо со злостью спросил его:
— А ты зачем сюда явился? Тебе здесь чего надо?
Тонто сделал несколько шагов вперед и смиренно сказал:
— Филиппо, вы не должны судить обо мне плохо… я пришел, желая оказать вам услугу. Рассказать, как все произошло, чтобы вы не думали, что это сделали мы.
Все смотрели на него с неприязнью, но всем хотелось знать, как это случилось, и наконец Филиппо, хотя и скрепя сердце, пригласил его к себе выпить стакан вина. Тонто не заставил себя долго просить и направился к домику Филиппо, и мы все за ним следом, будто крестный ход. Тонто вошел в дом и присел на мешок с фасолью, а Филиппо, стоя перед ним, налил ему вина; мы же все столпились у порога и тоже стояли. Тонто не спеша выпил и потом сказал:
— Все равно отрицать бесполезно: ткани действительно взяли мы… Знаешь, Филиппо, в такие времена каждый за себя, а Бог за всех… Северино думал, что хорошо запрятал свой товар, а на деле выходит, что все мы знали, где он спрятан. Вот тогда мы и подумали: не возьмем мы — немцы возьмут, доносчик всегда найдется, так уж лучше заберем мы. А потом, Филиппо, ведь жить-то надо? — тут сложил он ладони и потряс ими перед собой, затем поглядел на нас и продолжал: — Ведь у каждого из нас семья, а в такие времена прежде всего думают о своей семье, а потом уж обо всем остальном. Не скажу, что мы поступили хорошо; скажу, поступили так по необходимости. Ты, Филиппо, — торговец, Северино — портной, а мы… мы тоже должны жить… вот мы и устраиваемся… Плохо сделал Северино, что пошел к немцам. Они тут ни при чем. Черт подери, Филиппо, если бы Северино так не злобствовал, мы могли бы с ним поладить — продать ткани и разделить деньги… Ну, скажем, мы сделали бы ему какой-нибудь подарок… в общем, свои люди, сочлись бы… Северино же просто исходил злостью, и случилось то, что случилось. Явились они с этим проклятым немцем, и Северино ругал нас на чем свет стоит, а потом немец навел на нас автомат и сказал, что хочет сделать обыск, а мы ведь в известном смысле подчиняемся немцам, значит, не могли помешать ему. Ткани сразу же нашлись, немец погрузил их на грузовик и укатил вместе с Северино. А Северино, уезжая, нам даже крикнул: «Есть еще справедливость на этом свете!» Нечего сказать, хороша справедливость. Знаете вы, что сделал немец? Отъехали они несколько километров, а навстречу им другой грузовик, полный итальянцев, которых немцы поймали во время облавы и везли на фронт работать на строительстве укреплений. Тогда немец остановил свой грузовик и, угрожая автоматом, заставил Северино слезть и взобраться на грузовик с арестованными. Вот так Северино, вместо того, чтобы получить назад свои ткани, угодил на фронт, а немец, он тоже портной, теперь будет переправлять в Германию отрез за отрезом, откроет там свою мастерскую и оставит с носом Северино и всех нас. Вот я и говорю, Филиппо, зачем ему было вмешивать в это дело немцев? Известно, двое дерутся, а третьему лафа. Так случилось и здесь, и я клянусь, что все это сущая правда.
Читать дальше