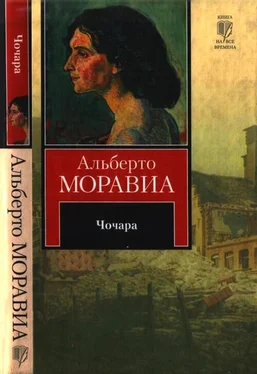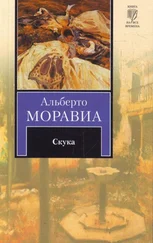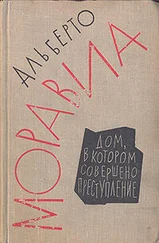Стояла я неподалеку от Северино и видела, как при этом известии он буквально пошатнулся, будто его кто-то сзади по голове хватил палкой. Паренек тем временем уже поднялся на «мачеру»; Северино схватил его за грудь и, задыхаясь, тараща глаза, бормотал:
— Нет, быть не может… Что ты городишь? Мои ткани? Материю? Украли? Невозможно это… Кто же мог украсть?
— А я почем знаю, — отвечал парень.
Сбежались все беженцы и окружили Северино, а он как сумасшедший метался из стороны в сторону, дико вращал глазами, бил себя полбу, рвал на себе волосы. Филиппо было попытался его успокоить, говоря:
— Да полно тебе, не расстраивайся… может, это только болтают…
— Какое там болтают, — сказал простодушно паренек, — я сам своими глазами видел дыру в стене и пустой тайник.
При этих его словах Северино с отчаянием потряс кулаком в воздухе, будто угрожая самому небу, а затем стремглав бросился вниз по тропинке и скрылся из виду. Всех нас ужасно огорчил этот случай; значит, война все продолжается, даже становится еще более ожесточенной, и у людей совести больше нет, если теперь грабят, то скоро и убивать начнут. Филиппо горячее всех обсуждал это событие, ругая Северино за то, что тот не был достаточно осмотрителен, и кто-то из беженцев ему заметил:
— Ты небось тоже замуровал свое добро в доме у свояка, смотри, чтобы и с тобой чего не случилось.
Тут вспомнила я разговоры, что вели Кончетта и Винченцо, и подумала, что беженец-то прав: ведь у них в доме стенку каждую минуту тоже могли бы разобрать. Но Филиппо решительно покачал головой и с уверенностью сказал:
— Мы с ними кумовья и поклялись святому Джованни… я крестил их сына, а они крестили мою дочь… разве ты не знаешь, что святой Джованни не допустит обмана?
Подумала я тогда при этих словах Филиппо, что хоть он и считает себя великим умником, но у каждого из нас есть свои слабые стороны и каждый может оказаться в дураках: к примеру, мне казалось, что уповать на святого Джованни, имея дело с Кончеттой и Винченцо, было ужасной глупостью, может, и довольно невинной, но все же глупостью. Ничего я не сказала, чтобы подозрений в нем не вызывать. Тем более что один уж получил хороший урок, а его ничему это, видно, не научило.
К вечеру Северино возвратился из долины, с головы до ног покрытый пылью, грустный и подавленный. Рассказал он, что ходил в город и видел проломленную стену и опустошенный тайник; ограбили его дочиста. И теперь он нищий. Сказал он также, что сделать это могли одинаково как немцы, так и итальянцы, но думает он, что скорее всего итальянцы, причем, насколько он мог понять, расспрашивая немногих оставшихся в городе жителей, местные фашисты. Рассказал он все это и умолк, неподвижно сидя, скорчившись, на стуле у порога дома Филиппо, еще более пожелтевший и почерневший, чем обычно; обхватив руками спинку стула, он смотрел одним глазом в сторону Фонди, где у него все украли, а другим глазом, как всегда, будто подмигивал. И пожалуй, тяжелее всего было видеть именно это: обычно люди подмигивают, когда им весело, а он подмигивал, хотя готов был наложить руки на себя от отчаяния. Время от времени он качал головой и тихим голосом говорил:
— Мои ткани… все пропало… дочиста ограбили, — а потом проводил рукой по лбу, словно никак не мог осознать того, что случилось. Наконец он произнес: — Состарился я за один день, — и поплелся к своему домику, не пожелав остаться ужинать у Филиппо, который пытался всячески утешить его и успокоить.
На следующий день видно было, что он только и думает о своих товарах и все ищет способ вернуть их. Уверен он был, что украл их кто-нибудь из местных жителей; и почти не сомневался, что это дело рук фашистов или, вернее, тех, кого теперь называли фашистами, а раньше, до падения фашизма, знали их в долине как бродяг и босяков. Не успели вернуться фашисты, как эти жулики вступили в фашистскую милицию, чтобы грабить и жить за счет местных жителей, которые благодаря войне и бегству всех властей оказались целиком у них в руках.
Теперь Северино вбил себе в голову, что он должен разыскать свои ткани, и, можно сказать, ежедневно отправлялся в долину и возвращался вечером усталый, запыленный и с пустыми руками, но полный, как никогда, решимости. Решимость эта сказывалась также и в его поведении: молчаливым он стал, глаза у него горели, как у безумного, а на лице мускул так ходуном и ходил под кожей, обтягивавшей ввалившиеся щеки. Если кто-нибудь его спрашивал, зачем он каждый день бывает в Фонди, Северино в ответ говорил только: «Хожу на охоту», подразумевая, что он охотится за своими тканями и за теми, кто их украл. Постепенно из разговоров Северино с Филиппо удалось мне понять, что фашисты, которые, по его мнению, украли ткани, имеют свою штаб-квартиру в одной усадьбе, расположенной в местности под названием «Уомоморто» [6] Мертвец (ит.).
. Было их человек двенадцать, и перевезли они в усадьбу большое количество продуктов, отнятых силой у крестьян. Обжирались они там, пьянствовали и вообще жили в свое удовольствие, а обслуживали их во всех отношениях несколько потаскушек, которые раньше были прислугами и фабричными работницами. По ночам эти фашисты покидали свое логово и уезжали в город, где обходили дом за домом, брошенные беженцами, и тащили все, что под руку попадалось, простукивая прикладами ружей пол и стены и разыскивая тайники. Вооружены они были все автоматами, ручными гранатами и кинжалами и чувствовали себя вполне уверенно, потому что во всей долине, как я уже говорила, не было ни карабинеров — одни давно бежали, других арестовали немцы, — ни полиции, вообще никаких властей.
Читать дальше