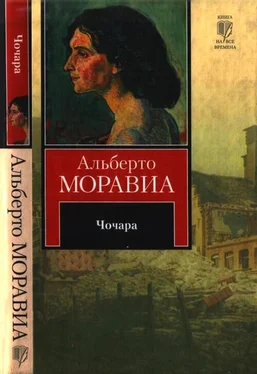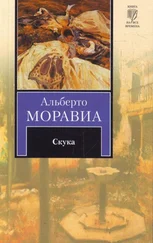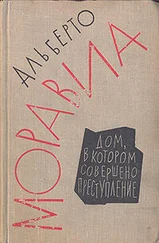На этот раз он ничего не ответил.
Однако, хотя разговоры Микеле были трудны для нашего понимания, все же Розетта и я всегда предпочитали его компанию обществу других мужчин. Словом, был он самым разумным из всех, и, пожалуй, один он не думал о деньгах и наживе, и поэтому с ним было не так скучно, как с другими. Правда, деньги и нажива — дело важное, но когда слышишь разговоры об этом с утра до ночи, то в конце концов, начинают они действовать угнетающе. Филиппо и другие беженцы только и знали, что говорить о наживе, то есть о купле и продаже, и по какой цене, и с какой прибылью, и как дела шли до войны, и как пойдут они после. Если не говорили о наживе, то играли в карты. Собирались они в комнатке у Филиппо: бывало, усядутся на полу, поджав под себя ноги и прислонившись спиной к мешкам с мукой и фасолью, в шляпах и с сигарами во рту, да часами режутся в карты и так при этом орут и вопят, что казалось — их режут. А вокруг четырех игроков всегда стоят по крайней мере еще четверо зевак, как это бывает в деревенских остериях. Всю жизнь я терпеть не могла карт и не понимала, как это можно целые дни проводить за игрой, зажав в руке такие грязные, замусоленные карты, что на них и фигур не разобрать. Но хуже всего было, когда вместо разговоров о наживе или игры в карты компания Филиппо начинала болтать о всякой всячине — одним словом, молоть всякий вздор. Человек я необразованный и толк знаю в одной лишь торговле да в земле, но и то все время я чувствовала, что эти здоровенные, бородатые пожилые мужчины, когда разговор выходил из круга их обычных интересов, несли околесицу. Ощущала это я тем острее, что могла их сравнивать с Микеле — ведь он не был таким, как они, и хоть мыслей его я частенько не понимала, все равно чувствовала, что мысли эти правильные. Люди эти, повторяю, рассуждали как идиоты, или, я сказала бы даже, как животные, умей животные рассуждать; а когда эти люди глупостей и не говорили, то произносили слова оскорбительные, грубые и жестокие. Вспоминаю я, к примеру, некоего Антонио, булочника. Был это маленький, черный-пречерный человечек; один глаз у него ничего не видел и казался меньше другого — еле-еле его прикрывало короткое веко, которое все время дергалось, будто песчинка ему попала в глаз. Однажды, не помню когда, четверо или пятеро беженцев, и Антонио в их числе, сидя на камнях «мачеры», разговорились о войне, о том, что бывает и что случается на войне, и мы с Розеттой остановились их послушать. Этот Антонио, когда ему было лет двадцать, воевал в Ливии и любил об этом вспоминать, ведь это было самым значительным событием в его жизни, и к тому же он потерял на войне глаз. И вот мы с Розеттой вдруг услышали, как он, уже не помню к чему, говорил:
— Троих наших они убили… мало сказать убили… глаза им выкололи, языки отрезали, ногти вырвали… тогда мы решили проучить их… отправились рано утром в одну из их деревень да сожгли все хижины и поубивали всех мужчин, женщин и детей… маленьким девчонкам, сукиным этим дочкам, штыки между ног втыкали и бросали потом в общую кучу… Разом отбили у них охоту зверства всякие учинять…
Тут кто-то слегка кашлянул, чтобы обратить внимание Антонио на наше присутствие — верно, он нас не заметил, стояли мы за деревом. Антонио, будто извиняясь, сказал:
— Ну, на войне всякое бывает.
Я услыхала эти слова уж когда поспешила вслед за Розеттой, которая повернулась и быстро пошла прочь. Шла она, опустив голову, потом наконец остановилась, и увидела я, что она бледная-бледная, а глаза полны слез. Спросила я ее, что с ней, и она ответила:
— Ты слышала, что говорил Антонио?
А я лучшего ничего не нашла, как бухнуть его же слова:
— Ничего не поделаешь, доченька, на войне всякое бывает.
Она помолчала минутку, а потом сказала, будто разговаривая сама с собой:
— Знаешь что, лучше быть среди тех, кого убивают, чем среди тех, кто убивает.
С того дня мы еще больше отдалились от других беженцев, так как Розетта ни за что не хотела разговаривать с Антонио и даже видеть его.
Однако и с Микеле Розетта не всегда была согласна: вот по вопросу о религии взгляды их очень расходились. Микеле не выносил два вида людей: как я уже говорила, фашистов и потом священников, и трудно сказать, кого из них он больше ненавидел — первых или вторых. Нередко он в шутку говорил, что фашисты и попы — это одного поля ягоды; разница меж ними лишь в том, что фашисты укоротили черную рясу, превратив ее в черную рубашку, тогда как попы носят рясу длинную, до самого пола. Мне от его яростных нападок на религию, вернее сказать на попов, было ни жарко ни холодно; всегда я считала, что в этих вопросах каждый волен поступать по-своему; сама я верующая, но не настолько, чтобы пытаться навязывать свою веру другим. И к тому же я отлично понимала, что в словах Микеле, несмотря на всю их резкость, злобы не было, мне иногда даже в голову приходило, что он так ругал духовенство не потому, что ненавидел именно служителей церкви, а может, потому, что огорчался: не такие они, какими должны быть, и не всегда ведут себя, как им подобает. В общем, кто знает, быть может, Микеле и был по-своему верующим человеком, но, видно, разочаровался он в религии; часто именно такие люди, как Микеле, которые могут быть настоящими верующими, разочаровавшись в религии, особенно яростно ополчаются на священников. Розетта же была в этом отношении совсем другим человеком, чем я: она глубоко верила и требовала того же от других; не могла она допустить, чтобы при ней поносили религию, даже как это было с Микеле, когда он говорил искренне и, в сущности, без злобы. Так, с самого начала при первых же его нападках на священников она сразу же ясно и твердо ему заявила:
Читать дальше