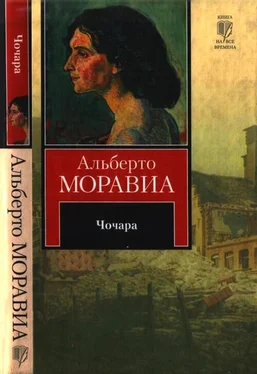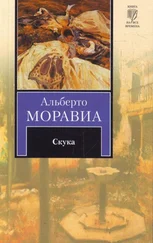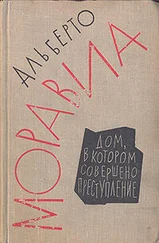Он улыбнулся и сказал:
— Мы рассчитаемся с вами и за вино, и за курицу, но это лишь часть нашего долга перед вами. Теперь скажите мне, что мы можем для вас сделать.
Я ему тогда все выложила начистоту: сказала, что нам нечего есть; что в Фонди нам оставаться невмоготу, жилья у нас нет, а дом, в котором мы остановились, был разрушен во время ночной бомбежки; я сказала ему, что мы хотим отправиться в мою деревню, вблизи Валлекорса, где у меня родители, и мы в любом случае сможем там прожить в моем доме. Он выслушал меня внимательно и сказал:
— То, о чем вы просите, на самом деле запрещено. Но ведь при немцах тоже было запрещено оказывать гостеприимство английским пленным, не так ли?
Тут он улыбнулся, и я улыбнулась вслед за ним. После чего он сразу же продолжал:
— Ну, вот что. Я скажу, что вы поедете с нашим офицером в горы, чтобы собрать сведения об этих наших пропавших военных. Впрочем, такое расследование рано или поздно мы все равно провели бы, правда, не в ваших местах, потому что там они пройти не могли. Значит, офицер сначала довезет вас до Валлекорса, а потом займется расследованием.
Я его поблагодарила, а он ответил:
— Это мы должны вас благодарить, будьте добры, назовите себя.
Я тут же назвалась, и он все записал старательно, а затем встал, распрощался с нами и был до того любезен, что проводил нас до самой двери, где стоял часовой, которому он сказал что-то по-английски. Тогда солдат тоже сразу стал очень любезным и попросил нас следовать за ним.
Он проводил нас в самый конец коридора с голыми белыми стенами и потом ввел нас в пустую, но чистую комнату, где стояли две солдатские койки, и сообщил, что эту ночь мы проведем здесь, а завтра, как приказал майор, поедем в другое место. Он ушел, закрыв за собою дверь, а мы со вздохом облегчения уселись на свои койки. Теперь мы чувствовали себя совсем по-другому, чем до сих пор. На нас была чистая одежда, мы умылись, у нас были консервы, крыша над головой, две койки и, главное, надежда на лучшие дни. Словом, мы совсем изменились, и этой переменой были обязаны майору и его хорошим словам. Я ведь не раз думала, что с человеком нужно обращаться по-человечески, а не как со скотиной. А что значит обращаться с ним по-человечески? Это значит держать человека в чистоте, в чистом доме, значит показать ему свое дружелюбие, уважение и, главное, не отнимать у него надежду. Если этого не будет, то человеку, который способен на все, ничего не стоит превратиться в животное и вести себя как скотина, и тогда зачем от него требовать, чтобы он вел себя как человек, раз уж хотят, чтобы он был скотиной.
Ну что ж, мы обнялись покрепче, и я, поцеловав Розетту, сказала ей:
— Вот увидишь, теперь все наладится, на этот раз по-настоящему. Проживем несколько дней в деревне. Отъедимся там, отдохнем, а потом вернемся в Рим, и все у нас пойдет по-прежнему.
Бедняжка Розетта, она только сказала мне:
— Да, мама, — ну совсем как ягненок, которого ведут на убой, а он того не знает и лижет руку тому, кто тащит его под нож. Да, к несчастью, рука эта была моей, и я не знала, что сама, по своей воле, поведу ее на убой, как вы дальше увидите.
В тот день, пообедав банкой консервов, мы растянулись на койках да так и пролежали в полудреме. У нас не было охоты бродить по улицам Фонди — слишком уж печальна вся эта ярмарочная сутолока, все эти оборванцы и солдаты посреди развалин, которые на каждом шагу напоминали о войне. Ну, а потом усталость у нас еще не прошла, ведь после такого испуга и таких волнений мы ночь провели на открытом воздухе, и кости у нас так и ломило. Мы спали, то и дело просыпаясь, чтобы затем снова задремать. Моя койка стояла у самого окна, ставен не было, и всю комнату заливало голубым светом; то и дело просыпаясь, я замечала, что свет меняет направление и силу по мере того, как полуденное солнце клонится к закату. И тогда я была так же счастлива, как в тот день, когда слушала пальбу пушек: но только теперь я была счастлива за Розетту, спавшую на соседней койке, рядом со мной, — после стольких превратностей судьбы и всяких опасностей она оставалась цела и невредима. Я думала о том, что, несмотря на все, мне удалось благополучно выкарабкаться и, пройдя сквозь эту военную бурю, спастись самой и спасти свою дочь: Розетте было хорошо, мне тоже, и с нами не случилось ничего особенно страшного; скоро мы вернемся в Рим и поселимся в нашей квартирке, я снова открою лавку, и все опять пойдет, как прежде. Даже, пожалуй, лучше, чем прежде, потому что жених Розетты, ведь он, конечно, тоже спасся, вернется из Югославии, и тогда они с Розеттой поженятся. В этой полудреме я с особым удовольствием и глубокой радостью думала о свадьбе Розетты. Представлялось, как она под яркими лучами солнца выходит из портала церкви, вся в белом, в подвенечном уборе, и жених ведет ее под руку, а за ними иду я и все родные и друзья; все счастливые такие, улыбающиеся. Но мне этого было мало, и тогда я мысленно переносилась назад, в самую церковь, чтобы увидеть, как они на коленях стоят перед алтарем, а священник, что их венчал, говорит им в назидание о святых обязанностях, налагаемых браком. Но мне и этого было недостаточно, и тогда я снова переносилась, на этот раз уже в будущее, и видела Розетту вместе с ее первенцем: мы сидим за столом — я, она, ее муж. И вдруг рядом в комнате заплакал ребенок, и тогда Розетта идет за ним и берет его на руки, потом снова садится, расстегивает лифчик и дает ребенку грудь, а тот тянется к ней своим ротиком и обеими ручонками, и она наклоняется над ребенком, чтобы съесть ложку супу, и теперь за столом нас уже не трое, а четверо — муж Розетты, сама Розетта, малютка и я.
Читать дальше