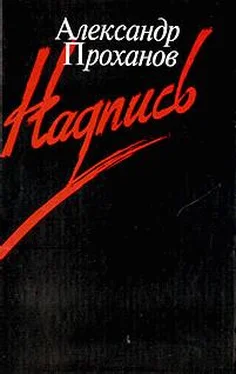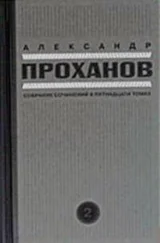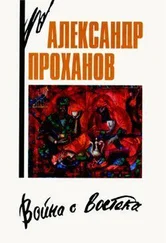Поднялся Акимыч, держа стопку с водкой. Обвел всех строгим взглядом:
- Значит, что я скажу. Поздравляю всех, что мы отсажали картошку. Хорошо поработали, дружно. Теперь покончить с огурцами и капустой, а дальше поливай и пропалывай. Значит, всем желаю хорошего урожая, чтобы жили мы дружно, помогали друг другу, а осенью, когда засыплем в погреб картошку, уберем огороды, опять встретимся на Празднике Урожая, - всем поклонился.
Чокнулись, выпили, мужчины с просветленными лицами, женщины, морщась от горечи, помахивая у ртов руками, словно отгоняли злой дух. Коробейников радостно, жадно выпил водку, подхватывая с тарелки запеченный желток.
Как всегда, после первой молчали, сурово жевали. Кулик деловито заметил:
- Между первой и второй промежуток небольшой.
Выпили еще одну, потом третью. Вдруг разом заговорили, загалдели, не слушая друг друга, торопились что-то сказать, важное, неотложное. О щуке, которая нынче хорошо нерестилась в озере. О пожаре, который случился в соседней деревне, но дом, слава богу, отстояли. О торговке в магазине, у которой растрата, и ее, по всему видно, засудят. О директоре совхоза, который смилостивился и позволил частникам обкашивать опушки. О какой-то Нюрке, которая стала курить, оттого и сделался выкидыш.
Коробейников охмелел. Сладко погрузился в неразбериху, гул, мужицкие споры, бабьи смешки. За террасой опустился густой, синий вечер с набухшей черемухой, с майскими жуками, с черной резной бахромой леса на долгой негаснущей заре.
«Хорошо», - думал он, глядя на Валентину, на детей, которым жена насаживала на вилки по кусочку жареной картошки.
- Эх, чего говорить без толку, давай споем! - встрепенулась Клавдия. - Маша, Куликова, запевай «Хас-Булат…».
Куличиха захватила побольше воздуха, подняла высокую грудь и истошно, режущим, истовым голосом завела:
Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя,
Золотою казной я осыплю тебя…
К ней потянулись другие женщины, раскрывали рты, прикрывали глаза, наполняя песню силой, стройностью, отыскивая в ней свое место. Укоризненно, призывно глядели на мужиков, которым не хотелось прекращать разговоры, но которые умолкли при звуках знакомой песни, много лет звучащей над всеми застольями, яишнями, рюмками. Песня, спетая тысячи раз, давнишняя, завезенная с кавказской войны каким-нибудь усачом-кавалером, переиначенная чувствительным слободским песнопевцем, трогала Коробейникова. Он увлеченно пел, вплетал свою разноцветную нить в пестрый и красочный половик женских волнистых голосов, среди которых вдруг зазвучал громко и неправильно сиплый бас Кулика.
Дам ружье, дам кинжал, дам коня своего,
Но за это за все ты отдай мне жену…
Коробейников пел, испытывая к поющим нежность, любовь, безграничное доверие и благодарность за то, что суждено ему было родиться среди этих деревень и просторов, что он один из них, связан с ними глубинным родством, которое дает ему силы, наделяет добром, окружает его, и жену, и любимых детей невидимым хранящим покровом.
Как-то раз вечерком, в темноте, близ ручья
Мне Аллахом клялась, что не любит тебя…
Застолье голосило шумно, мощно, сиплыми басами, густыми баритонами, тонкими бабьими вскриками. Коробейникову казалось, что их песня превращается в огромное ветвистое дерево, вырастающее из кровли в вечернее небо, и каждый голос, как струящаяся ветвь, и все вместе они обнимают молодые весенние звезды.
Тут разгневанный князь саблю выхватил вдруг,
Голова старика покатилась на круг…
Он взглянул на Валентину. С поющим ртом, восторженными, счастливыми глазами, она кивнула ему. И этот кивок означал, что время испытаний миновало, что они опять неразлучны. Он подхватил ее слова, улетел ввысь, и там, в восхитительной живой пустоте, утратил имя и облик, превратился в безымянный свет, в сладкий восторг, обнимая весь мир любовью.
Вернулся в Москву, оставив семью в деревне. Работал в газете, много читал, учил наизусть стихи Ван Вея, восхищаясь их возвышенной нежностью и печалью. Был спокоен, уравновешен, почти безмятежен. Эта уравновешенность и обретенная гармония удивляли его. После всех потрясений, потери друзей и родных, душевного надлома, обернувшегося телесной болезнью, эта гармония снизошла сама собой, без видимых усилий с его стороны. Не потребовала искупительного подвига, глубинного покаяния, священной жертвы. Словно изрезанное, истерзанное бытие сдвинуло свои рваные кромки, и они сошлись, не оставив рубца, как сходится вода, разрезанная веслом. И только мучила мысль о Елене: носит его ребенка, живет в доме обманутого, оскорбленного ею мужчины, а он, Коробейников, отрекся от нее в своем благополучии и покое.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу