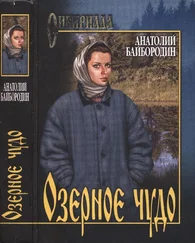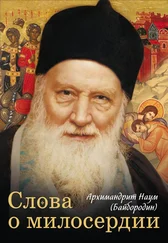1
Ни в улице, ни в одном из дворов ребят не приметил – палящее солнце разметало братву по теням и прохладам да загнало в озеро. Лишь дед Шлыков, Киря, посиживал на лавочке, без устали помахивая скрюченной кистью правой руки. Иногда прижимал ее к груди левой рукой, потом забывал, ослаблял, и кисть вырывалась, опять ходила ходуном, шоркая по черной сатиновой рубахе, подпертой выступающей костистой грудью. Люди судачили и в местной газетке писали, будто дед Киря известный на всю округу партизан, воевал в забайкальских лесах и степях против семеновцев и каппелевцев и под Читой его шибко контузило. Вот с тех пор, баяли, рука у деда и трясется, и с головой, дескать, не ладно стало — чудил старик. Но может быть, и ни причем тут война, по ветхости лет многие старики чудят и трясутся, а деду Кире уже шел девятый десяток, да и бывалые мужики и бабы поминали: дескать, и смолоду был чудило добрый.
Дед Киря знобко тряс сведенной кистью руки, – не то от партизанской контузии, не то зяб даже в июльский зной, – но дымными январскими морозами купался в рыбачьих иорданях либо в полынье, дивя прибрежный народ вещим здоровьем, а суеверных пугая, – уж не снюхался ли старче с окаянным озёрником, что при солнышке дрыхнет в удонных травах-щелковниках, зарывшись в ил и тину, а после заката, обрядившись в зеленую кугу, кряхтя, выбирается на лед, и, приладив козырьком перепончатую лапу, прижмурив слезящиеся, древние очи, скрадывает деревню, поджидает: может, какой хмельной ухарь, запрягши халюного коня, порысит впотьмах через озеро да махом в полынью и залетит, – угодит к нему, водянушке, на вечный постой.
Поначалу даже соседи не ведали о стариковской причуде, – купался он ни свет, ни заря, когда еще лукавые в кулачки не били, но – как смехом поминал отец Алексею с молодухой, а Ванюшка подслушал, – однажды, на Крещенъе Господне, прибрежный люд своими глазами зрел дедово купание. О ту пору рыбзаводская бригада наводила под сосновским берегом, и когда рыбаки вершили первую тонь и вытягивали невод, где в сочно зеленом шелковнике и сизой тине бушевали красноперые окуни и щуки-зубатки, когда подле рыбаков уже суетились с кулями и хольшовыми сидорками сосновоозёрские мужики и бабы с ребятней, – вот тогда-то все и узрели деда.
Старик подковылял к широкой иордани, через кою рыбаки накануне вечером тянули невод и которая теперь зеленовато посвечивала тоненьким ледком, раздолбил ее пешней, выметал совковой лопатой шугу, и, то ли не чуя, не видя, что на него оторопело пучится народ, то ли еше нарошно, чтобы потешить люд, мигом разделся донага потом, перекрестив себя и воду, как и положено на Водокрещи, чмокнул нательный крестик и сполз в паряшую иордань. Все ахнули!.. Даже рыбаки, уж на что закаленные, насквозь продутые ледяными ветрами, укутанные в полушубки и коробом стоящие брезентовые плащи, и те зябко передернулись.
Не успел рыбаки сообразить: то ли переть деда из иордани за бороду, словно репу из грядки, то ли уж пусть пропадает, раз выжил из ума, как старик, поплескавшись, чисто селезень, вылез на лед в чем мать родила, выказывая деревне съеженный от студеной воды, старческий срам. Молодые рыбаки по-жеребячьи заржали, степенные мужики, сплюнув, отвернулись, а бабы, вначале перепугавшись, тут же в высрамили бесстыжего деда. А тот протерся докрасна ходшовой мешковиной, мало-мало оболокнулся и, прихватив пешню с лопатой, под свист и гиканье ребятишек побежал к берегу мелкой трусцой… Вот тебе и, безбожник, красный партизан, – Крещение Господне справил!
Так он ежезимно купался на Богоявление, иногда сопровождаемый своим дружком Ванюшкой, и никакая холера его не брала. Парнишка, впервые увидев дедово Водосвясвятие, так поразился, что нарисовал картинку и подарил ее деду Кире, чем до слез растрогал того. Малый и сам, раздухарившись, сунулся было в иордань, но духу не хватило, да и старик отсоветовал
Сейчас дед Киря грел на июньском солнышке трухлявые кости, и по бороде его, ковыльной, прибитой инеем, как в прозрачном редколесье, блудили мухи, шатался слабый ветерок, прилетающий из степи либо с озера.
Солнце било прямо в лицо, но дед не отворачивался от светила, а как сидел, укрыв глаза тонкими, прозрачными веками в синих прожилочках, так и продолжал сидеть. Старый партизан посиживал на лавочке, словно часовой на весь недожитый век оставленный здесь в карауле, намертво пристыв к вышорканной плахе костистым задом; и следил былой вояка иногда напару с Ванюшкой, как текло время и круто менялась жизнь, за которую получил контузию, за праведность которой столь полегло русского народа, что и считать боязно, — хоть бы уж оправдалась кровушка, искупилось братоубийство нынешней жалостью, покаянною любовью; жизнь текла, налаживалась, хотя, как и прежде, одни люди умирали, другие нарождались, третьи старились на его глазах или мудро добрея, или жесточась и скупея, или попивая горькую, поскольку ни помудреть, ни окунуться в злобную и корыстную суету не смогли, не сумели. Случалось к нему на лавочку выползала и обезножевшая разбухшая, тяжело страдающая от водянки бабка Шлычиха, в любую пору глухо повязанная черным полушалком, и тогда они, две глухие тетери, переговариваясь, громко кричали друг другу на ухо, и слушала вся улица.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

![Анатолий Байбородин - Деревенский бунт [Рассказы, повести]](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-thumb.webp)