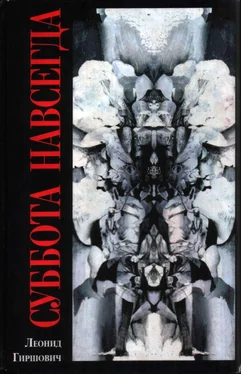Выстроенная в двенадцатом веке тосканцем Ванино Ванини, она служила маяком еще Синдбаду. Но после землетрясения 1242 года бухта Ванино, названная так в честь несравненного зодчего, обмелела, и одинокая башня, стоявшая посреди мелководья, была превращена в темницу. Случилось это при калифе Мохаммаде Али, неверной собаке. С той поры, помимо летучих мышей, крыс, ящериц, другой гадости, там по целым десятилетиям обретались человеческие существа в полуистлевших лохмотьях; их стоны, их крики — чайкам, и все их упования — на скорую смерть.
— Живым из Башни святого Иуды не выходил никто, — зловеще похвалился стражник.
— Никто? — переспросил новенький. — В таком случае мне повезло. Но, боюсь, ты солгал. О том, как бежал отсюда Алонсо Кривой, знает вся Испания. Да что Испания… Мне рассказывал об этом старый индеец с Акутагавко.
— Хорошо, будь по-твоему. Но одна ласточка еще не делает весны. Также и Сориа. Ты унаследуешь его камеру, но не его судьбу, это я тебе говорю.
— Конечно, у меня же нет братьев. [6] См. прим. к первой части № 109.
На этот раз стражник не солгал. Видриеру и впрямь поместили в ту самую камеру, откуда Алонсо де Сориа, по прозвищу «Кривой», совершил свой дерзкий побег. Кривой был человек слабого сложения, но скор в движениях, ловок — подобно Видриере, хотя Видриера и не писал стихов, а порывистость и верткость, как известно, отличие стихотворцев. Прикинувшись бездыханным, Кривой, едва тюремный страж склонился над ним, воткнул ему в горло самодельный напильник — плод тайных и неустанных трудов, возможных лишь в условиях подневольного досуга. Затем Кривой облачился в одежду тюремщика, а тюремщик — в невольничьем рубище — был выброшен из окна (подпилить чугунные прутья узник позаботился заблаговременно). Упав с высоты в сто локтей, тело расплющилось о морские скалы и вскоре стало добычею чаек.
Другого охранника, обнаружившего камеру пустой, а решетку распиленной, ввело в заблуждение зрелище человеческих останков у подножия башни, жадно пожираемых птицами: беглец далеко не ушел.
А тем временем Сориа, дождавшись сумерек, беспрепятственно покинул Башню святого Иуды. Его вид в тусклом свете факелов не вызвал ничьих подозрений, а кираса и шлем явились наилучшим пропуском. Нескоро хватились исчезнувшего стражника, да и то заподозрив поначалу «в дезертирстве с оружием в руках».
Так бежал Алонсо Кривой. Урок, извлеченный из этого побега, свелся к тому, что окна в дополнение чугунным решеткам взяли в «намордники» — забрали толстыми чугунными плитами, оставив лишь узкую щель вверху — «для доступа ящериц», свет в камеру даже самым погожим деньком едва-едва проникал.
Но, как известно, чем хуже, тем лучше, всякая палка — о двух концах. Так, в темноте мысль становится острее, и Видриера, утверждавший, что «невозможно только, когда человек умер», уж оттачивал и оттачивал ее — взамен напильника. Вот если б так же в вину пороку всегда возможно было вменить добродетель и, наоборот, добродетель опорочить благими делами — о! тогда и философский камень ни к чему. Сколько раз вместо хлеба Видриера получал даже не камень, а ведро морской воды и в нем живую рыбину — изволь, ешь, пей. А гады, ползавшие по его лицу, с которыми в кромешной тьме никак было не разделаться? Казалось бы… Но если взглянуть с другой стороны…
Потребовались сотни тысяч лет, чтобы лапа зверя, катая камень ради забавы, сбила им с дерева плод, превратясь тем самым из лапы в руку. Потребовались годы, чтобы Видриера понял: соленая вода, сырая рыба, гадины, наполняющие собою его камеру — и в придачу ко всему темнота — это как раз то, что ему необходимо для побега. Он заметил, что если гнилостную слизь с дохлой рыбы, смешанную с соленой водой, процедить через тряпицу, то тряпица будет ярко светиться. С учетом этого явления одной ящерице, весьма крупной, он сделал крылья из кожи, содранной им с других ящериц, а еще приладил ей бороду, глаза, рога, облачил в светящуюся кисею и пустил прямо на тюремщика, когда тот открыл дверь камеры, чтобы швырнуть несчастному немного пищи. При виде живой саламандры, объятой пламенем, страж лишился сознания — и более никогда в него не приходил, закончив свои дни в богоугодном заведении святых сестер Лавинии и Клариссы совершенным идиотиком. Эпитафия на его могиле, выбитая на двух языках, по-испански и по-русски, гласила:
La Salamandra fria, que desmiente
Noticia docta, a defender me atrevo,
Cuando en incendios, que sediento bebo,
Mi corazon habita y no los siente.
Читать дальше