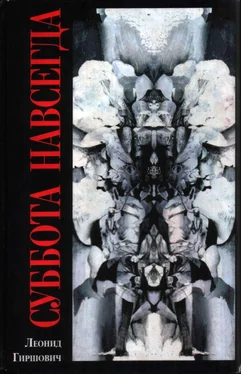Ты Барбоса тлетворней в сто раз.
С Вельзевулом живя по соседству,
В самых мерзких грехах ты погряз.
Нечистотами вскормленный с детства,
Знай: свой шабаш ты справишь без нас.
У вас, папаня, аж челюсть отвалится: а-о-у-э… И с отваленной челюстью — понимай, с брежневской артикуляцией (подражая последнему): „Да ты… Да я тебя…“ А солнышко: „Я уже на западе, мудило!“» Побагровел ниневийский царь от гнева, побелел от ярости, позеленел от злости, посинел еще от чего-то — в общем, почернел, пожелтел… Забыл, что говорит стихами. «Выбирай сам, какой смертью хочешь помереть?» — «Да чего там, Ваше Святое Императорское Католическое Величество, — говорю, — киньте в море, рыбкам на прокорм. Это святое». — «В море его!» — зло так, и отвернулся. А в Ниневии царские распоряжения выполняются не иначе как с честью. Поэтому снарядили самый лучший корабль, поплыли со мною за горизонт, где море глубже — чтоб верняк был. Команда состояла из одних капитанов, а предводительствовал ею адмирал. То́ еще было плаванье, а тут на беду разыгралась сильная буря. Среди экипажа согласья нет, каждый сам себе отдает приказы, а адмирал вааще — забыл где правая, где левая сторона. А может, и не знал никогда — ниневиец же. Подступили они все ко мне и кричат, стараясь перекричать ветер, друг друга и шум воды: «Это за тебя нам такая буря? Уйми, слышишь!» — «Киньте меня в море, и уймется». — «Не-е, тогда точно вслед за тобой отправимся». Стали грести к берегу, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. К тому же капитаны, сами понимаете, сто лет на веслах не сидели. Я им снова: «Возьмите и бросьте меня в море, и море утихнет для вас». Делать нечего, сделали они то, что я им велел — и что царь им их приказал. Буря сразу утихла, корабль смог пристать к берегу. Ну, экипаж его рапортует, что так, мол, и так, задание выполнено с честью — а у самих коленки тряслись, пока по сходням спускались. Что до меня, то я прямехонько угодил в пасть какому-то левиафану — киту, кашалоту — словом, черт знает, кому, и трое суток промучился в этой подводной лодке. Уж и натерпелся я вони. К счастью, будущие апостолы выудили рыбину. Сколь ни была она огромна, еще большим было изумление поваров, когда, вспоров ей брюхо, они нашли там меня, живого и невредимого. О чуде доложили царю, который, склонясь пред судом Всевышнего, облекся в траурные одежды. А остальные жители не просто последовали его примеру, но и превзошли царя в своем покаянном порыве, ибо, по справедливому утверждению Ходжи Насреддина, когда раввин бзд… вся синагога ср…. Сорок дней, тянувшихся как сорок лет, народ постился, царапал себе грудь, посыпал голову пеплом и этим заслужил прощение в глазах Господа. А меня такое зло взяло, что вечно им все с рук сходит, ну, прямо до смерти, мосье.
Тут Видриера принялся так уморительно тереть кулаком глаза, что пираты, и без того смеявшиеся над его рассказом, вовсе стали кататься от хохота.
— Вы порадовали нас, мальчик, своим рассказом, для дебютанта он совсем неплох. А ведь если рассудить, и сам никто, и звать никак, — и с этими словами Поликарп, так звали одноглазого гиганта, пожал Видриере руку. А следом за ним и остальные — в знак того, что Видриера отныне зачислен в братство Веселого Роджера.
Болгарин Поликарп был единственным иностранцем на корабле, остальные — чистокровные провансцы. Но домушник с мазуриком всегда договорятся. Так и богомил с альбигойцем: они честно грабили испанские каравеллы, топили португальцев, набивали себе карманы золотом ацтеков в полной уверенности, что делают богоугодное дело, и предавались на суше тем большему бесстыдству, чем суровей был их судовой устав. Убежденные манихейцы, они твердо верили, что Предвечный, отделив твердь от воды, так же поступил с добром и злом. Причем грех, ясное дело, сухопутен. Там свист ветра в парусах, небо и море — сколько хватает глаз, готовность пасть в любой момент, очищение боем; здесь — подмена морской соли женским потом, свободы духа — духотой лупанария, морских валов — грудями, даже ветры — вонючие. Поэтому свой промысел пираты превозносили до небес, и с каким чувством прелат служит мессу, с таким они учиняли морской разбой. Недаром целомудрию пленниц ничто не угрожало, покуда прелестная ножка не касалась берега. А уж на берегу и ты не ты, и грех не в грех — раз Богу угодно было сотворить острова и материки наряду с мировой купелью. Но только наполнялся парус ветром, как снова якобинский террор начинал крушить гидру плоти. И главным Робеспьером был при этом Видриера. Не пригодный к воинскому искусству, он зато выслеживал грешивших против естества, и тогда их немилосердно гнали по доске.
Читать дальше