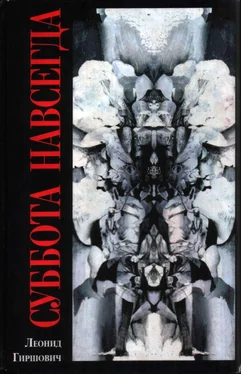Последним раскланивался сам маэстро. Карло-Рикардо Аббассо был ослепительно лысый человечек в коротких панталонах и кирпичном — вероятно, пуленепробиваемом — жилете. Прибавим к этому высоченные, как айсберг, брыжи — разве что белизны не такой первозданной, но ведь айсбергу и не приходится выдерживать по три спектакля в день.
— Я не поняла, почему Селим-паша всех отпустил… Ой, Ляля, смотри, твой crêpe капает!
Лена, дочь зоолога из Прудковской гимназии, поспешно слизнула густую красную каплю, она совсем позабыла про блин. Она позабыла обо всем на свете. Щеки ее пылали, из-под съехавшей набок шапки выбивались рыжеватые волосы.
— Но он же объяснил, что есть большее наслаждение, чем месть: отвечать великодушием на несправедливость, — мальчик, сказавший так, выглядел младше своего возраста из-за своего роста.
— Все враки, — сказала Маня, — турки беспощадны. Я читала в одной книжке — называется «Черная роза, или Гордая валашка», Сильвии Владуц, — про девушку, которую похитили и продали в гарем паши. Но она сумела забраться в огромный торт, это ее спасло. Потом скрывалась в русской миссии. Ее звали Черной Розой — такая она была красавица. Когда валашский князь ее увидел, то влюбился без памяти. Так стала она валашской господарыней, княгиней Мурузи. Ее мужа турки схватили и убили, потому что он был за Россию. Знаете, как у турок казнят? Ужас, лучше не рассказывать. А царь взял несчастную княгиню с малолетними княжичами под свое покровительство и подарил им дом на Литейном… Да что с тобой, Лялечка? Ты что, в театре марионеток никогда не бывала?
— Не бывала, не бывала… а вот и побывала! — Присяжный стряпчий Шистер достал брегет с гербом на крышке. В иные времена этой крышки касалась рука, которая ни при каких обстоятельствах не могла бы быть ему протянута — даром, что лицо у Шистера бритое, усы «пикадор», как у офицеров с «Камоэнса» (беднягам тоже недолго оставалось их носить — уже спущена в бомбовые погреба «Гете» роковая торпеда…). — Дети, а что если нам на тройке прокатиться?
— Да-а, дядя Мотя, да-а! Ура! — закричал мальчик.
Лена доела блин. Но она молчала, боясь выдать свой восторг: на тройке она тоже прежде не каталась. Руки от сиропа были липкие — несколько слепленных снежков, и все смылось.
— Тебе не страшно? — спросила Маня. — Это будет побыстрее поезда. А что как вывалит?
С наступлением темноты гулянье на Марсовом, по язычеству своему, обретало оттенок инфернальный, что было незаметно днем, под сверкающими на морозе красками. Голубые язычки газа в сумерках обводили этот берендеев град, с его каруселями, сбитенщиками, ледяными горками, гармонью, скоморошьими представлениями — своих и заезжих карабасов — всем тем, что полиция сгребла в кучу и высыпала на Царицыном лугу: гуляйте, люди русские.
Петербург насчитывал миллион жителей; среди них пятнадцать тысяч евреев, из коих уроженцев меньше половины — но даже для этих последних катанье на тройке взапуски с «каталями» было планетою Марс. И полвека спустя о том, чтобы съесть что-то на улице: пунцового петушка на палочке иль масляну бородушку пирожка — равно как о прокатной лодке, о стрелковом тире, о прочих «радостях воскресения» — мне даже помыслить нельзя было: «Ты что, из деревни приехал?» Вместо этого мы обедали «на Конной», где после сладковатого, перестоявшего на огне жаркого подавался куриный бульон с мацой. От их прежней квартиры бабушке Мане осталась комнатушка возле кухни, в которой потом прописали меня; на расшатанной этажерке — серебряная шкатулка с отделениями для ниток, иголок, булавок, наперстка, ножниц, рядом — гребень-лорелей, еще какие-то бессмысленные осколки былого. На стене в золоченой овальной раме висел «Завтракъ негоціанта», где яйцо облупилось до самого холста.
Матвей Шистер — жизнерадостное дитя гаскалы, бонвиван: духи, сигары, перстни, ежедневные обеды в клубе или у «Донона», само собой, юбочник Как иные бывают в долгах, так он весь был в шелках интрижек: пианистки, модистки, хористки, гувернантки — все флаги в гости были к нам. То одни, то другие эскадры гостили в наших портах, и продолжалось это, пока однажды за завтраком присяжный стряпчий Матвей Шистер не потерял сознание, которое более к нему не возвратилось. Согласно надгробию, это произошло 3.8.1916. Было ему тогда пятьдесят два года, девять месяцев, шесть дней и, гадательно, часов пять. Знаменитый брегет показывал не только время дня, но еще день недели, число месяца и год эры. А то возьмет да и пробьет час — обеда, как помним мы, читавшие «Онегина».
Читать дальше