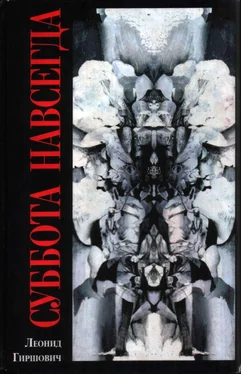Маня раздружилась с Леной Елабужской весьма своевременно: у той вскорости обнаружились признаки психического расстройства.
Примерно в середине третьего десятилетия нашего века — по-прежнему, двадцатого, в запасе у столетия еще два с половиной месяца — Мария Матвеевна слушала в Михайловском театре «Похищение из сераля». Она уже сменила фамилию на ту, что украшает обложку этой книги. Ее супруг, страшною эстафетой передавший мне имя [137]— с тем, чтобы и я посмертно переадресовал его следующему — тогда работал, кажется, в каком-то бюро по распространению театральных билетов или печатанию афиш, другими словами, был по роду своей деятельности связан со словом «театр». Возможно, благодаря этому в театры супруги ходили часто. Но почему билетик именно на это представление должен был уцелеть — загадка природы. Решительно ничего не значащая бумажка с оторванной контролькой пережила блокаду, эвакуацию, будучи заложена меж страниц книги (тоже чудом уцелевшей). Разгадки нет. Разгадка всякий раз прячется за поворотом дороги. А вот что прячется за «Поворотом винта»? Я сидел в том же самом кресле — как прикажете это понимать? Выходит, театральный билет тридцать лет пролежал у бабушки с одной-единственной целью: отпраздновать редчайшее совпадение, какие в лотерее делают человека миллионером? Так я был поставлен перед вопросом вопросов: а что ежели имя Ему СЛУЧАЙНОСТЬ.
Надо сказать, в Малый оперный я попал тогда более или менее случайно. English Opera Group — не La Scala, «Поворот винта» — не «Паяцы», Питер Пирс — не Марио дель Монако. Но, с другой стороны, и не «болгарский импорт». (В точности как с увлажнителем воздуха, который, по словам Меира, им прислали из Израиля.) Билет — дареный, на тебе, убоже. А дареному коню… Одели ребенка в костюмчик, пусть сходит: опера, Англия. Вообще же, хождения в оперу о мою пору у нас уже не практиковались. Оперная музыка, пение, певцы — тот же ЦПКиО, но для «тянущихся к культуре». (Это хорошо для миловидной учительницы под руку с морским капитаном, для шведского туристического автобуса, для других приезжих, для Меира, чтоб по возвращении рассказывал, как сидел в царской ложе на «Заколдованных гуськах».) Такое не говорится прямо, очевидно, потому что само собой разумеется — с теми же, для кого это само собой не разумелось, и подавно говорили о чем-то другом, о постороннем, к музыке не относящемся. Музыка есть музыка инструментальная. [138]Опера наваливается на нее и душит, затискивает в оркестровую яму, рвет на себе путы музыкальных номеров. Вскоре она окончательно расправится с ариями, тональностью и станет подбоченясь: палач над распростертым телом своей жертвы, на которой вместо «Польши» или «Чили» карикатурист напишет: «Западноевропейская музыка». Провозгласим возрождение мистерий, где человеческий голос — голос первобытного заклинателя, звучащий под какой-нибудь африканский наигрыш в сопровождении танцев. Все племя в экстазе.
Не исключаю, что по приходе из театра я был немедленно отправлен спать, без каких-либо расспросов. Но явись ко мне в предсонье призрак нашей прежней домработницы, я бы, в отличие от Майлза, [139]не дался ей. Чуть было не сказал: «не дался ей живым». Так ведь живой я им и не нужен — этим выходцам с того света. Хочется сказать ребятам: не старайтесь, не утянуть вам меня в свой лесок…
И тут бы я беззаботно уснул. От английских бредней меня надежно хранила немецкая музыка. К тому же я не держал Бриттена, на которого тогда была санкционирована «мода», как, например, на Рокуэлла Кента. [140]Если и не «Поворот винта», то, по крайней мере, вовсю звучали «Питер Граймс» или «Военный реквием», в исполнении которого участвовал наш школьный хор. Бриттена я не любил той же нелюбовью, что и Сен-Санса. С возрастом, подобрев к последнему, я сменил гнев на милость и в отношении первого: по сравнению с «Золушкой» Россини «Билли Бада» играть одно удовольствие.
А еще в связи с оперой, вернее, царской ложей, вспоминаю: мне лет десять, Невский, проходим мимо театральной кассы:
— Дама, не хотите с мальчиком на оперу «Тихий Дон»? Билетики в царскую ложу…
— В царскую ложу я сяду, когда меня туда пригласит царь.
Шестью годами позже. Только и слышу:
— Не комсомолец, ты же не сдашь приемные экзамены, — все в ужасе от моего упрямства.
— Для меня это то же самое, что креститься, — возмутился я.
Ей этого было достаточно.
Das Land, das meine Sprache spricht.
Читать дальше