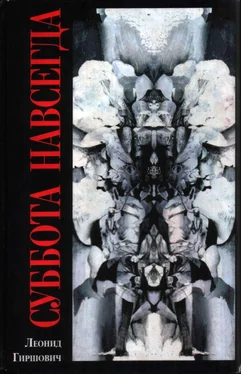— Ступай! Спеши, слышишь? Кого послать с тобою, гайдуков или янычар?
— Гайдуков. Янычары достойны худшей кары, чем таскать за мною кипарисовый муштабель.
Следующее явление паши по поднятии парчового занавеса. Аплодисменты лбами. На сей раз царственный бенефициант своим благосклонным вниманием отметил гайдуцкого офицера, он же дворянин из Приштины, убеждавший Бельмонте в чужой монастырь со своим уставом не ходить. Арамбаша ревниво прислушивался: приказ отдавался через его голову. (Уж эти мне головы на Востоке! Отскакивают от туловища, как блохи, а ведь их владельцам они ничуть не менее дороги.) Приказ мало чем отличался от нелюбимого им сызмальства «поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Идти следовало туда, куда этот сфаради велит, и принести оттуда то, что он скажет.
Не любит арамбаша чужие народные сказки.
Он перевел взгляд на Осмина. Евнух полагал, что путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а через другой орган. Паша поцеловал евнуха — сцена небывалая! — как перерезал торжественно ножницами ленточку: дескать, новый путь пущен в эксплуатацию. В памяти арамбаши кадры старой хроники: радостный дикторский голос извещает об открытии нового автобана. Но «почему-то» Имре Бен-Имре чужих сказок не любил.
По сравнению с мелочной ревностью начальника гайдуцкого приказа (к лейтенантику!), Осмин в своих заботах виделся государственным мужем, да позволено будет так сказать про евнуха. Прежде всего его мучило это странное сближение: не успел паша рта раскрыть, а художник из Испании уж тут как тут. Спору нет, Басра — город тысячи и одной ночи, но даже чудеса имеют свою подоплеку. Паша пожелал всякий миг видеть перед глазами портрет ханум — желание, выдающее в повелителе правоверных бывшего христианина, которому европейская златозада вскружила голову. Видите ли, Констанция она, а никакая не златозада. Якши. Но как deus ex machina является этот… со своей шпажонкой богомаз… О, здесь видна рука автора!
Если б вид, открывавшийся с башни, было возможно транспонировать в звук, то для Осмина это был бы пустой звук. Червяк жизни извивался где-то там, внизу, — но поскольку решительно не связывался с его темой, то и решительно его не занимал. Восторги Селима, восторги кованой пяты, для евнуха, что китайская музыка — для ушей Палестрины. Священнослужитель, об алтаре которого лучше умолчать, Осмин одно знал твердо: главное — промежность, остальное «шерри-брэнди», напиток, рожденный нашей фантазией. С ним согласилась бы вся пехота паши, всяк, осаждавший Вену и помысливший в этот момент о себе, любимом — благо и осажденные воспринимали вражеское войско, главным образом, как большое скопление турецких промежностей мужского пола. То-то сатир, приведенный янычарами к своему полководцу в качестве трофея, так жалобно блеял.
Призванный пашой разделить его уединение, Осмин и на царской башне, и за своей конторкой в Ресничке, и среди тюрбанов Дивана пекся лишь об одном — скажем так, о зефире в шоколаде (разумеется, когда не страдал медвежьей болезнью — профзаболеванием царедворцев).
— Скопче, — обратился к нему паша, — нынче художник будет писать Констанцию. Я хочу, чтобы на ней было европейское платье: юбка зеленого сукна и такой же корсаж, а рубашка пусть будет с напуском, воротничок отложной и вырез. Ножки в красных чулочках, а вместо туфелек красные ботиночки на танкетке.
— Повелитель все продумал.
— Более чем, Осмин, более чем. Констанция не должна видеть этого красавчика. Я пытался смотреть на него глазами испанки, глазами молодой испанки, и говорю тебе: можно заткнуть уши, можно ослепить себя, но успокоить воображение иначе как пулей нельзя. А моя ревность питается воображением.
— Господин! Всевластный владыка! Я отказываюсь верить услышанному. Твой гарем за семью печатями Израила. Твоя воля казнить всех жен до единой. Не счесть цветов в долинах Аллаха, мы соберем новый букет. Луна приливов, царица звезд, златозада моей мечты — но для повелителя это всего лишь рабыня. Раздавить, задушить, посадить на кол! И Осмин отыщет тебе другую.
— Нет, мой добрый старый евнух, другой не будет. Ты помнишь песню, которую сложил наш лучший поэт? Та-там-та, ти-та-там, тру-лю-лю, тру-лю-лю…
— Боюсь, в песнях я не силен. Не эта?
Я встретил девушку, полумесяцем бровь,
На щечке родинка, а в глазах любовь.
Селим взыграл душою.
— Я велю, чтоб на голове у него был мешок с прорезями для глаз.
Читать дальше