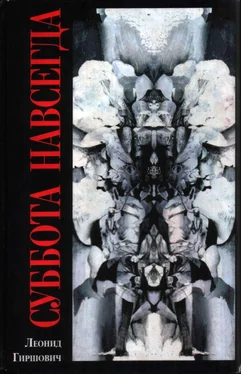Ты, Эдмондо из Кеведы, впал в эти проклятые ереси колдовства, в чем сам сознался, после чего был взят под стражу, и дело твое разбиралось нами; но лукавый и жестокосердный, ты отвратился от целительного лекарства. Дабы ты сберег свою душу и миновал адской погибели, на которую обречен душой и телом, мы пытались обратить тебя на путь спасения и употребляли для этого различные способы. Однако, обуянный низкими мыслями и как бы ведомый и совращенный злым духом, ты предпочел скорее быть пытаемым ужасными, вечными мучениями в аду и быть телесно сожженным здесь, на земле, преходящим огнем, чем, следуя разумному совету, отстать от достойных проклятия и приносящих заразу лжеучений, взамен которых тебе следовало бы стремиться в лоно и к милосердию Святой Матери-Церкви.
Так как Церковь Господня более не знает, что еще может для тебя сделать ввиду того, что она уже сделала все, что могла, мы, сказанный Епископ Озмский и верховный инквизитор этого города, присуждаем тебя, Эдмондо Хосе де Кеведо-и-Вильегас, как впавшего в ересь и мнимо раскаявшегося преступника, к передаче светской власти, которую настоятельно просим умерить строгость приговора во избежание кровопролития и опасности смерти. Аминь».
Ветреным декабрьским утром для публичного оглашения этого приговора осужденных привели в церковь Сан-Томе. На сей раз не «печная дверца» приоткрылась — широко растворились железные врата преисподней по имени Инквизиция, и народ с любопытством тянул шеи: успеть увидеть, что там внутри. Народ был загодя оповещен о предстоящем акте веры. Повсюду — на Сокодовере, в Королевском Огороде, вдоль набережной, на всех площадях и со всех амвонов Толедо — городские герольды и пастыри, точно балаганные зазывалы, сулили почтеннейшей публике за участие в предстоящем священнодействии все духовные милости, какими только располагает римский первосвященник.
Было первое воскресенье рождественского поста, когда читается благовествование от Луки: «Преданы также будете и родителями и братьями, и родственниками и друзьями». С раннего утра над площадью гремел соборный колокол, и медленно кружившиеся снежинки в предрассветной мгле казались серыми хлопьями золы от высоко взметнувшегося столба пламени. Природа пророчествовала. Жители Толедо зевали, мыча во всю глотку, на которую тут же поспешно клали крестик, как на могилу какого-нибудь вурдалака. Беря в расчет сей немудреный звук, доносившийся отовсюду, да еще при условной замене одного общего колокола множеством индивидуальных колокольчиков, это сборище могло с полным основанием приравниваться к стаду — теми, кому, по их глубочайшему убеждению, Господь вручил хворостину в руки.
С рассветом в нетерпенье ожидаемое «ауто» началось. «Едут, едут», — заволновались в народе, и взоры все обратились в одну сторону: на тебя — в том случае, если б ты был осужденным на смерть еретиком (вот какой кошмарный сон). Представим все-таки себе — благо такие превращения бывали и в наше время: ты — по прошествии многих месяцев, проведенных в подземелье, покрытый язвами, со следами пыток, что ни след — за каждым свой крик, свой «Мунк» (коллизия: когда в Копенгагене был украден Мунк, Рябушкин был украден из Третьяковки, и два похищенных холста стояли сколько-то друг против друга), ты едва можешь ступать, ноги тебя не держат, держат тебя руки тех двоих, кого по праву называют твоими крестными отцами. Они приданы тебе для увещеваний и утешения, а более всего, чтоб поддержать твою немощь, послужить ей опорой. Крестные отцы — само прощение и забота; обращаются к тебе «сынок», словно такое еще возможно на земле. «Потерпи еще маленько, сынок», — или наоборот: «Не крепись, поплачь, положи голову-то мне на плечо и обопрись, обопрись о меня… Эту ножку сюда, эту — сюда… Видишь, сам и пошел». Да только невдомек тебе, что двум этим ласковым любой ценой надо довести тебя до места казни и сдать на руки палачу — дышащим и в сознании. А до этого еще осталось несколько часов. Рядом с тобою существо нелепого вида: в желтой накидке из бумажной ткани, разрисованной красными андреевскими крестами, а на голове остроконечная шапка, вся в языках пламени. Здравая мысль могла бы тебе подсказать, что ты и сам такой же, но где ж ей взяться, здравой мысли? Ты босой, бесчувственный, не замечаешь декабрьского денька, заставляющего всю площадь поплотнее кутаться в бурые плащи и отбивать ногами хоту. Нет — ты слышишь лишь самое сокровенное, рождающееся по эту сторону окружающей тебя пелены: «Обопрись о меня, сынок, так… хорошо…»
Читать дальше