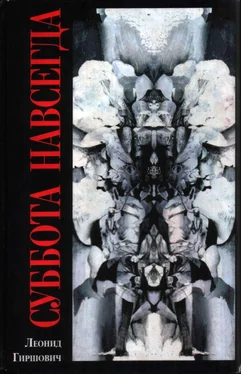Мендоса страдал недержанием речи. Это было старческое — в молодости, говорили, он был не так словоохотлив. Но коррехидору пришлось по душе дерзкое сравнение, балансировавшее на грани ереси, — что уже, можно сказать, румяная корка для квалификаторов. И он стал разглядывать осужденных, желая поймать себя на преступной слабости к одному из них… к одной из этих фигур, в санбенито и кароче, коих в своей жизни навидался — уж можно себе представить, сколько. Нет, никаких признаков слабости. Косточка костра. Попытался даже вызвать в памяти картины прошлого — напрасно, как под крышку гроба заглянул, того, что носили сегодня вокруг церкви.
«А что как Господь Своего Сына вовсе не любил?» Он сам содрогнулся от своей догадки. Тем более правдоподобной, что опыт жизни подтверждал ее вдвойне: с одной стороны, Эдмондо, который мог бы сколько угодно взывать к нему — так и слышишь слезное: «Отче! Избавь меня от часа сего. Отче!..» Совершенно бесполезно. С другой стороны, обе Марии были новыми христианками. Вдруг сходство этим не исчерпывалось? Тогда б все объяснялось…
Коррехидор поймал на себе взгляд хустисии и поторопился придать лицу выражение надмирной скорби, которое ему всегда хорошо удавалось — даром, что это могло быть только скорбью Отца, чувством, ему абсолютно неведомым; ведь что ни говори, а это было и традиционным выражением лица испанского вельможи.
Хустисия отвел глаза. Фанатик сыска и отец родной своим корчете, сам он детей не имел. Быть же «отцом родным» и просто отцом — не одно и то же. Интересно: педрильчата — его крестники — тоже не внушали своим «родимым» того трепета, с которым будет сопряжена всякая мысль о ребенке спустя несколько столетий. Отчасти к этому не располагала их многочисленность. Оближут каждого по-сучьи да и вытолкают вон — из дома, из сердца. Культ Младенца еще отнюдь не освящение детства, с которым христианство (монотеизм гоев) только и могло войти в дома. Без этого, будучи законсервированным в стенах храмов, оно, христианство, рисковало перевалить через все сроки годности. Наконец «младенец» перестал писа́ться с заглавной буквы; идол, которому поклонялись, превратился в ребенка, которого любят. Когда, в каком романе это впервые было заявлено? Кто здесь лидировал, Диккенс? Достоевский? (Маркони? Попов?) Одно бесспорно: это век возникновения «сонатного аллегро» в немецкой музыке (Гайдн, Моцарт). Так что подлинным первым веком христианства стал девятнадцатый век (всего-то!) — оказывается, не только концом, но и началом не совпадающий с календарем, прикарманивший еще добрую четверть предыдущего столетия, о чем вспоминают реже.
«И все же своего „педрильчонка“ кидать в огонь — не аргальской водицы испить. Каковы б ни были нравы в семнадцатом веке, это заставит желваки дернуться хотя бы раз». Хустисия посмотрел на великого толедана — то был взгляд, который толедан перехватил.
После мессы и проповеди каждому преступнику в отдельности зачитывался от имени епископа приговор. Местоблюстителем был о. Тиресий (Терезий), поэтому читал министрант — кроха лет одиннадцати, служивший ему поводырем. Прежде, чем очутиться у доминиканцев, он водил компанию с нами, был шалуном, как все, — голос имел, правда, всегда ангельский. Но потом трубочист Манрико определил сына в услужение к монахам. В Италии и в Австрии Паку наверняка бы поплатился ятрами, но в Испании — благодарение Господу и его Святой Инквизиции — на театре спокон веку наряду с мужчинами плясали и пели женщины. Чего-чего, а в сопрано недостатка у нас не было.
Наступил черед коррехидора. Светская власть приносила присягу Святой Инквизиции — каковую олицетворял слепец. Порою поневоле приходится оперировать банальными символами — в частности констатировать, что слепые в истории Инквизиции сыграли заметную роль.
— Я, Хуан Оттавио де Кеведо-и-Вильегас, великий толедан, священной волею всемилостивейшего нашего католического Монарха коррехидор города Толедо, на этих четырех святых евангелиях клянусь: назначать наказание соответственно приговору Святой Инквизиции, которому все присутствующие здесь с благоговением внимали; почитать все сказанное отцами инквизиторами как бесспорную истину и в согласии с этим умерять в сердце своем суровость к тем, за кого ходатайствует Святая Католическая Церковь, и не знать снисхождения к отринутым ею и оставленным святою ее благодатью — да поглотит их проклятые души геенна огненная, а тела их да будут испепелены здесь на земле. Клянусь также не иметь другого руководства в своих законных действиях, кроме решений Святой Церкви и ее Святой Инквизиции. Еще клянусь, назначая наказание, не знать ни дружеской близости, ни иных привязанностей, включая узы крови — как об этом сказано Господом нашим Иисусом Христом: не будет у вас ни дома, ни имения, ни отца с матерью, ни детей — один Я. Укрепи же меня, Господи, на стезях правды Твоей. Аминь.
Читать дальше