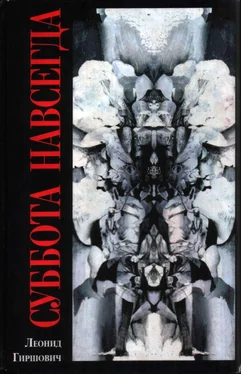Коррехидор говорил тихим усталым голосом. То не была усталость дней и даже лет, то была усталость родовая, крови. Убежденность, с какой это говорилось, равнялась категоричности, не допускавшей ничего иного, кроме беспрекословного повиновения. А иначе… лучше не спрашивать, что иначе.
Констанция медленно, как бы в такт этим словам (улавливаемый лишь ею да говорящим — по причине исключительности их уз), подошла к его светлости и опустилась на колени. Это была сцена, запечатлеть которую хотелось навеки. Стареющий рыцарь, краса и цвет испанского рыцарства, чей облик благородством может поспорить лишь с благородством крови, струящейся в его жилах, и — дева. Коленопреклоненная. Небесной красоты. Эмали глаз, камеи зубов. Шея лебеди, плывущей сквозь морские лилеи. Ланиты Сервантесовой пастушки, пробегающей утренней персиковой рощей. Ладони охраняют взволнованную грудь. (Пара царапин бессильна унизить красоту этой сцены.)
— Батюшка, это вы? — Голос звучит, как благовещенское пение ангелов.
— Это я, дочь моя, это я, моя высокородная судомойка.
Констанцию уже так один раз назвали. Но сказавшего это, чье лицо всегда стояло у ней перед глазами, она больше не помнит, его заслонил в памяти облик великого толедана.
— Я так долго ждала вас, батюшка.
— Мой путь к тебе, дитя мое, был непрост.
— Но на всем его протяжении вас должна была сопровождать моя молитва. О, сколько я их прочитала, как молила Заступницу о том, чтобы вы меня нашли, батюшка! — И две хрустальные слезы скатились из прелестных глаз.
Струятся под отеческой лаской золотые волосы. Пропущенные сквозь пальцы, как золотой песок, они падали на тигровый глаз перстня.
Коррехидор не в силах вымолвить ни слова. Первое же сорвавшееся с его уст повлекло бы за собою лавину слез, он изо всех сил нудит вспять эти слезы счастья. То, как дрожит его подбородок, скрывает сановная борода, в которой нет-нет да и блеснет по-гольбейновски серебряная канитель.
Но тут вскричал Севильянец:
— Констанция! Гуля Красные Башмачки! Я растил тебя, как родную дочь!.. Нет, я дорожил тобою сильней, чем если б ты была моей кровью и плотью. Ибо что́ моя кровь в сравнении с твоей! И я об этом никогда не забывал. Если же по недомыслию и обидел тебя когда, взращенное мною высокородное дитя, прости старого глупого Севильянца. Прислуживая другим, он скопил за эти годы меньше, чем теряет… — он всхлипнул, — с твоим уходом, моя Гуля…
На это Констанция, еще сильней прижавшись щекой к унизанной перстнями руке, проговорила:
— Добрый человек, ты не должен так говорить. Когда во славу Пресвятой Девы совершается такое чудо, никто не в убытке, один только дьявол.
— Истинный Бог — герцогиня, — прошептал кто-то под безмолвное одобрение окружающих. Даже запах крольчатины перестал. То есть его больше никто не чувствовал. Другие ароматы — счастья, радости, пожелания блага — насытили воздух. И были они вполне обоняемы, но как описать ни с чем не сравнимое, ни на что не похожее благоухание?
Коррехидор сумел совладать со своим сердцем: пусть другие распускают нюни, но не он, Хуан Быстрый, железная пята Толедо (и разве что с последних крохотных островков еще слышится: «Самоконтроль нам только снится»).
— Хозяин, лишая вас единственного вашего достояния, я не желаю тем не менее прослыть безжалостным грабителем, — шепнув «встань, дитя мое», он высвободил руку, к которой льнула щекой Констанция, и хлопнул в ладоши. Словно только этого и ждавший, из-за двери появился лакей. — Вот тридцать тысяч эскудо золотом, которых вас злодейски лишил темный негодяй, они помогут вам смириться с понесенной утратой… Хотя и тридцатью тридцать тысяч — бланка против того, на что сукин сын покусился! — с неожиданной яростью вскричал коррехидор, потрясая кулаком. — Граф Лемос отдал серебряные копи, я же… — он в ужасе посмотрел на свое вновь обретенное чадо, словно увидал мысленным оком сцену, происходящую между Амноном и Тамарью. — Небом клянусь, — шептал он, — негодяй будет молить о костре, как о великой милости… — при этом заскрежетал зубами, будто бы от лица преступника. Но и в неистовстве праведного гнева тоже.
— Батюшка, поберегите себя, глядите, как у вас жилки… — и пальчики с невыразимой заботой и нежностью коснулись вздувшихся жилок на побагровевшем виске. Не встретив этому препятствия, она повторила свою почтительную ласку.
— Ты права, мой ангел, — сказал коррехидор, тяжело переводя дыхание. — Права, как бывают правы только ангелы. Не пристало на торжестве во славу Мадонны заботиться о котлах преисподней. Сатана и так уже предвкушает поживу. Хозяин!.. Где тот раненый идальго, которого к вам поместили?
Читать дальше