— Имя ее светлости доны Марии называлось?
— Намеком. Мол, знатная сеньора одна была, с которой вместе Алле задницы казали.
— Ничего, будет имя… Эх, гореть нам не перегореть. А что его милость дон Эдмондо, тоже отпал? Что он про Видриеру говорил?
Карлик захихикал, если и без злорадства, то с некоторым чувством превосходства.
— У него пропал… хустисия… — Нико перешел на шепот, хотя они были вдвоем, да и колеса грохотали по мостовой, будто каменные ядра. — Я сам это видел снизу… А насчет Видриеры каялся, что убил и что призрак к нему ходит… Но главное, я сам подглядел, ввиду преимуществ своего роста: у него отсутствует… хустисия…
Тут к грохоту колес, представлявшемуся достойным аккомпанементом баскервиллиеву вою сакабучи, прибавился быстро нараставший, грозивший затопить собою все, тысячеустый шум человеческого моря. Ирак! Толпа бежала по Барселоне, и надо было, прежде чем она свернет с Барселоны, успеть подъехать к воротам, украшенным собачьей головой. Внешне тройное покаяние ничем не отличалось от San Fermin’а.
— Иди отсюда, Нико, выкатывайся, — дон Педро приоткрыл дверцу, и карлик шлепнулся на мостовую, подпрыгнул, подпрыгнул еще раз и, как резиновый мячик, запрыгал, все чаще, чаще, пока не покатился в направлении, противоположном тому, куда умчалась карета.
Справедливость опоздал. Волну уже прибило к Святому Трибуналу, и происходившее сейчас у железных ворот королевский альгуасил мог вообразить себе без труда. Сценарий был таков. Грешник (-ца, — цы, — ки) — сразу видишь народное собрание в Афинах, скандирующее название любимой приправы; минуточку терпения, граждане, сейчас подадут — к печеной картошке… Значит, грешник сам делает первый шаг к тому, чтоб испечься — сперва лишь местами, на пробу, а коль уж дегустаторы найдут блюдо стоящим, то и целиком, при большом стечении народа. Человек будущего спросил бы: зачем же они это делают? Разве они не знают, что их ждет?
Но нам, современникам, такие резоны и в голову не приходили. Торчать на острие всенародного кайфа по твоей загубленной душе — о!.. этот париж стоит обедни! А чего, простите, у вас пацанье по парадным и туалетам колется — они что, не знают, чем кончат? Так могли бы возразить поп-звезды покаяния, когда б им было суждено пережить блаженный сей позор. Но — слишком блаженно. (Оттого фальшиво звучат разные интервью, взятые в горячих точках — планеты, города, человеческой жизни; не веришь ни дающим их, ни берущим — знаешь: на Голгофе нет места членораздельной речи.)
Сокодовер, исламский душою, намокший желанием, с лоснящимися, как у доны Марии, мордасами, он («Шук-аль-Адвар») время от времени требует массовой истерии, запретить которую церковь бессильна. Невластен суровый приор над брызжущим семенем сном (да еще не своим — своего юного келейника). Но заставить сатану трудиться на себя — это церкви по зубам и даже составляет главное искусство пастыря. А уж как это по зубам «доминиканским собакам», и сказать неможно.
Покаянные оргии с бобовым королем на спице происходили в Толедо с гигиенической регулярностью. Разве что толпа не скандировала в экстазе вслед за греками: «Ца-ци-ки! Ца-ци-ки!», а вместо этого визжала: «Господи, помилуй, жжет! Господи, помилуй, жжет!» Люди раздирали в клочья одежду и нещадно лупили себя по темени (так называемая «порхающая кисть»). Покаянных речей самих ведьм никто даже не слушал. Да и кого интересовала эта прелюдия к шахсей-вахсей, главное — поскорей заторчать. Возглас (обращенный к ведьме) «гони подробности!» был бы в ту эпоху чересчур интеллектуален для широких народных масс, и  трудился для избранных.
трудился для избранных.
Ударившись о железные ворота Инквизиции, толпа отпрянула, словно толпа туземцев — после ружейного залпа. Только двое поверженных оставались лежать на опустевшей площади (прочих же, удовлетворенных душою и телесно, как корова языком слизнула). Полузадохшиеся, полуистерзанные, подползли еретики к едва приметной дверце в воротах, прозванной в народе «печною», однако отличавшейся от печной тем, что запор у ней имелся не снаружи, а снутри. Это было зрелище! Пара гадов во прахе… ползучих… (Глубокий выдох.) Не переставая сипеть своими сорванными обезвоженными голосами «Господи, помилуй, жжет…», гады взывали о капле влаги к тем добрым самаритянам, которые, по выражению Иодокуса Дамгудера, «знали лишь от каленого отдирать паленое». Наконец дверца священной топки приоткрылась, и из кромешной тьмы донесся голос преподобного истопника:
Читать дальше
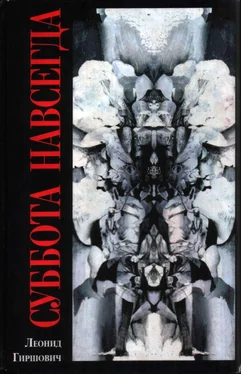
 трудился для избранных.
трудился для избранных.










