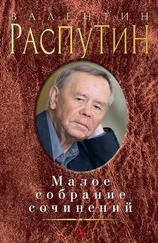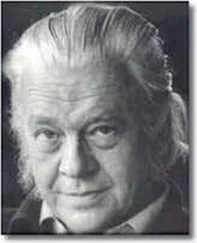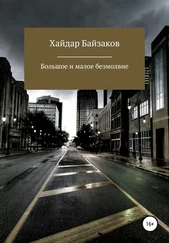Авигея Бархоленко - Светило малое для освещенья ночи
Здесь есть возможность читать онлайн «Авигея Бархоленко - Светило малое для освещенья ночи» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 2007, Издательство: ЭКСМО, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Светило малое для освещенья ночи
- Автор:
- Издательство:ЭКСМО
- Жанр:
- Год:2007
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Светило малое для освещенья ночи: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Светило малое для освещенья ночи»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Светило малое для освещенья ночи — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Светило малое для освещенья ночи», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— А что не любишь?
«Такое становится прошлым. Оно умирает. Из него вытекает время. Время катится вперед, как волна».
— Ген, не притворяйся доктором наук. Ты не мог этого сказать.
«Разумеется, не мог. Это сказала ты».
— Ген… А моя душа — ты уверен, что она есть?
«Как бы я тебя понимал, если бы у тебя не было души? Ты молчишь, но мы разговариваем — разве это не доказательство?»
— Ген, но ты же не можешь знать человеческие слова!
«Сотню-другую знаю. Но сейчас мы разговариваем не словами».
— Но я слышу слова.
«Ты слышишь те слова, на которые переводишь сама что-то другое».
— Что такое это другое?
«Оно так велико, что можно понимать только частями. Наверно, для этого так много людей — каждый чувствует свою часть и говорит, как она называется. Назови и ты, тогда я буду знать, как об этом сказать».
— Вот ты и признался, что не знаешь.
«Знать — не мое назначение. Я могу создавать для тебя благоприятную среду. Вы называете это — любить».
— А ты понимаешь, зачем мне такая среда?
«Может быть, понимаю. Но ты не имеешь слов для перевода. А без слов вы уже не поверите даже самим себе».
Ген зевнул и лег, прилепившись пузом к крашеному полу. Глаза его сонно закрылись, но тело было обращено в мою сторону, как локатор.
— Ген… — позвала я молча.
Под веками шевельнулись белки.
«Я слышу», — сказал Ген.
— Чем ты слышишь, Ген?
«Я плыву».
— Пудель, ты бредишь.
«Чем ты слышишь воду, когда плывешь? Вода везде, ты внутри, ты чувствуешь любое колебание…»
— Тебе это зачем-то нужно?
«Мы не имеем того, что не умирает».
— А мы?
Пудель перекатился на бок, вытянул лапы, прикусил несвоевременную блоху.
«Ты всё еще спрашиваешь?» — проворчал он.
— Выходит, все эти религиозные байки…
«Если они живут так настойчиво, то, может быть, имеет смысл заглянуть в них поглубже?»
Так разговаривала я с белым пуделем или сама с собой, и была уверена, что пес понимает больше, чем я.
Так белый пудель Гений заставил меня достать с полки запылившуюся толстую книгу в самодельном кожаном переплете. Книгу собственноручно переплел мой отец. Темная кожа хранила линии давних произвольных сгибов, линии казались древним чертежом, указывающим путь к забытым тайнам.
Это была единственная книга, которую переплел мой отец. Я зажала ее между ладонями и ощутила далекий запах отцовских духов, которым он не изменял, должно быть, лет тридцать, так что я и до сих пор воспринимаю их как собственное свойство отца, и дуновение родного для меня запаха стало как забытая рука на плече, и мне захотелось воззвать в пустоту всесильным детским словом, и пустота приготовилась протянуть ко мне родные руки, но я не решилась, я подумала, что окончательно спятила, в тишине отзвучало сожаление, и я, чтобы не отчаяться от чьих-то неоправдавшихся ожиданий, прижала книгу к лицу, ограничивая свою веру материальной последовательностью, и сложный аромат кожи и духов раздвинул для меня рамки прошлого, я вскарабкалась на отцовские колени, которые были тверже всех кресел и стульев, и отец сказал:
— Ежик, ты знаешь, что никогда не умрешь? Не бойся жить, и когда-нибудь всё станет понятно.
— А тебе уже понятно? — спросил ежик, укалываясь об отцовский подбородок.
— Я и сказал то, что понял. Понимать — как ехать по длинной дороге. Можно к кому-то зайти, попросить воды из колодца, поблагодарить и отправиться дальше.
— А там, где дальше, что будет?
— Там будет другой колодец.
— А если мне не захочется пить?
— Я бы не хотел, чтобы так случилось. Нет, моя колючая, с тобой такого не будет.
Девочка на коленях засмеялась и сказала:
— Это ты колючий!
И мужчина, у которого колени были тверже всех кресел и стульев, непонятно сказал о чем-то понятном:
— Видишь ли, я бреюсь каждый день, а мне не помогает.
…Запах духов притупился, а запах кожи разбух и потемнел, кожа стала пахнуть совсем другим, мне туда сейчас было не нужно, и я осторожно положила Книгу на стол.
С годами я выросла и перестала задавать отцу умные вопросы. Он тоже потерял ко мне интерес — по-моему, после того, как обнаружил меня в дворовой компании, где мы, сопя, рассматривали что-то под хвостом у пойманной кошки.
Папа, я давно не заглядываю ни в замочные скважины, ни под чужие хвосты, но тебя уже нет, и мне даже не узнать, какую воду ты пил и из каких колодцев на своей дороге без длинных остановок.
Почему каждый начинает сначала?
А если то изумляющее, сложное, тончайшее, играющее движением, цветом, структурой, то нежное, яркое и радостное, живущее по незнакомым совершенным законам, — было чьей-то душой, моей, Елеонориной или моего инвалидного соседа через стенку — какая разница, это было нашим истинным, божественным, наполненным и самодостаточным. В какую же убогую колодку биологии, во все эти свистящие легкие, бурчащие кишечники, кариесные зубы и мозоли на пятках втискивалось это чудо — какую повинность отбывает душа в нашем рубище? Но вид ее был отраден и доброволен, вины в ней не звучало, лишь изливался майский праздник совершенства. Что же тогда? Добровольный труд, добыча в глубочайшей шахте — Господи, что способно добыть наше тело? На что оно способно, кроме страстей, невыполнимых желаний, глубинной тоски по утерянному и недостижимому, на что способны мы, кроме жалкой суеты, повседневности, недоброжелательства и преступлений? Пишем гадкие шлягеры, закупориваем дымами поры безвинных листьев, пожираем чужие жизни, создаем убогие философии, помогающие ненавидеть тех, кто с нами не соглашается… Да, кто-то все-таки не соглашается, кто-то, живя на коммунальной кухне, творит этическую историю народа, кто-то по непонятной потребности расшифровывает письменность сгинувшей цивилизации, кто-то отправляется в концлагерь, а кто-то четыре года учит своего большеголового сына первому слову «мама»…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Светило малое для освещенья ночи»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Светило малое для освещенья ночи» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Светило малое для освещенья ночи» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.