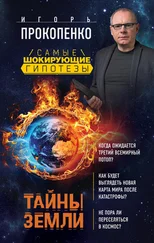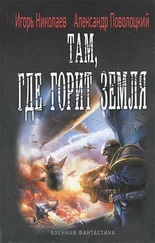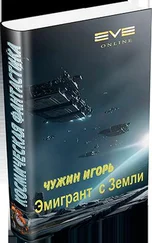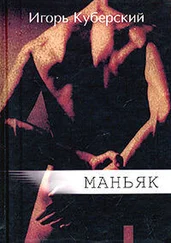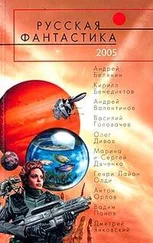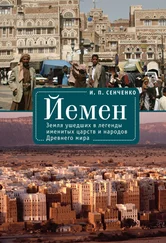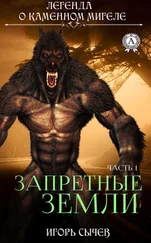Медный звон – призыв к заутрене, незримо плыл над улицами, над равниной моря, над домами, кораблями в порту, мачтами яхт, покачивающихся на волне у причалов, как он веками плыл над полями, лесами, колышущимися от ветра нивами с колоколен в славянских селениях, возвещая народу благовестом о начале дня, о том, что всё хорошо и разумно в этой архаичной, старозаветной стране, и по сей день, поныне, живущей под золотыми куполами древнерусских церквей, под сенью такой же древней, как сотворение славянского мира, религии, то ли сказки, придуманной невесть кем, скорее всего ещё во времена оные, первочеловеком, жившим в плодородных, райских долинах Месопотамии, и только-только научившимся добывать и хранить огонь, и затем украденной племенем Ханаанским и превращённой ханаанами в колыбельную, убаюкивающую глупыми химерами, полоумным бредом и по сей день сознание целых народов.
Симфония наступающего дня продолжалась в гуканье диких голубей на соседней крыше, в шуме проезжающих авто, негромких звуках голосов, визге трамвайных колёс на недалёком перекрёстке.
Городок был маленький, за час можно весь обойти, но обладал на редкость большой и очень богатой родословной. Как и вообще многие города Причерноморья.
Первоначальное поселение было ровесником не такого уж и удалённого от этих мест Вечного города, легионеры которого, блистая гривастыми шлемами и звякая короткими мечами, было времечко, гуляли по улицам этого городка.
А на волнах залива покачивались, отражаясь крутобокими смолёными боками в голубой лазури волн огромной бухты, шлёпали вёслами воинские галеры с раскрашенными деревянными, бронзовыми и золочёными фигурами глядевшихся в своё отражение в воде римских богов и богинь на носовой оконечности трирем.
И в разные времена в городке звучала разная речь: греческая, итальянская, турецкая, персидская, аланская, караимская, азиатская, ханаанская. Всего не перечислить.
Время шло. Маленький городок много чего видел и носил поочерёдно различные имена, в том числе известных завоевателей, пока его мимоходом, походя, не покорила выдающаяся в делах государевых царица из Северной Пальмиры.
В северной столице климат был не очень, а императрице, пережившей недавно большие неприятности в личной жизни, должно быть, захотелось далёкого южного тепла и непонятно было, доколе на юге на самом деле простираются границы Российской империи. Почему юг, Северное Причерноморье, до сих пор принадлежит Порте, каким-то османам, отчего от набегов диких племён с Кавказа и Крыма так много лиха претерпевают жители южной Малороссии.
Почему ногайцы и кипчаки совместно с другими дикими народами нападают, преодолев южные кордоны, на селения южных поселенцев, убивая мужчин, угоняя в азиатское рабство женщин и детей, забирая скот и грабя нехитрое имущество живущих в Малороссии жителей.
Императрица пригласила во дворец на Неве генерал-фельдмаршала Потёмкина, без советов которого не начиналась ни одна военная кампания, и, тыкая пухлым пальчиком в расстеленную на столе карту, в нарисованный на карте тёплый, ласкающий взгляд Понт Эвксинский, в города Азов, Измаил, Ак-мечеть, Султан-Сарай, принадлежащие туркам и закрывающие выход в Понт Эвксинский, а значит в Средиземное море, спросила у почтительно склонившегося сзади, над плечом, красавца-царедворца:
– Скажите, любезный фельдмаршал, правда ли, что на юге империи до сих пор творятся учиняемые местными дикими народами под покровительством турков бесчисленные беспорядки, и не пора ли, как по-вашему, дорогой граф, этим безобразиям положить конец?
И, если это так, кто бы из известных своей решительной деятельностью генералов мог бы выполнить эту сложную в военном отношении и весьма важную в приобретении в последующем для государства Российского, зело важную в политическом смысле деликатную задачу?
Фельдмаршал, принимавший решающее участие не в одной военной кампании, ответил, что пора. Давно пора!
Он вспомнил, что на юге, в монастырской крепости святого Дмитрия Ростовского, командует войсками, сдерживая дикие орды кавказцев и крымских татар, живущих за счёт варварских грабежей южных пределов, генерал-поручик Александр Васильевич Суворов, начинавший службу из-за слабости здоровья по протекции отца рядовым лейбгвардии Семёновского полка.
Отец Александра Васильевича, Василий Иванович Суворов, служивший в молодости в денщиках у Петра Первого и дослужившийся из солдат до звания генерал-аншефа, не хотел, чтобы сын пошёл в воинскую службу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу