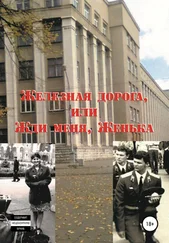Позже я пересекалась с некоторыми из моих первых московских знакомцев в той же квартире, когда мне ещё раз пришлось там пожить спустя два года. Случилось это после того, как хозяйка съемной квартиры «в двадцать четыре часа» с позором выставила меня. С позором — потому, что я была изобличена в порочной, по мнению хозяйки, связи с Добрым Дядей, который, естественно, и оплачивал аренду квартиры. Как получилось, что я в то время давно уже не жила в общаге для будущих медицинских сестер, почему и в училище-то не училась, а именно в самый период изгнания сдавала вступительные экзамены в МАРХИ — об этом чуть позже. А сейчас — о Потрясающем Открытии, которое я сделала во время моего первого квартирования у Володи.
После моего бегства из дома я сделала три Потрясающих Открытия, и все они пришлись на первые полгода моей бездомной жизни.
Потрясающими они были только потому, что открывали мне саму себя.
Первое открытие: «Мне можно верить», я сделала при помощи Доброго Дяди еще в Выборге.
Когда, вникнув в мою ситуацию, он неожиданно взялся помогать мне, первое, что мне захотелось выяснить, было:
— Почему вы мне вот так сразу поверили, Дмитрий Данилович? Мне собственные родители с младых зубов не верили. В ерундовых случаях, когда в двух словах можно было всё прояснить, они доискивались, как же оно было на самом деле. То, как я им что-то преподносила, их не удовлетворяло в принципе. А вы меня и не знаете совсем, а доверяете. А вдруг я мошенница на этом самом доверии?
— Поверил, потому что ты говоришь правду. Ты всегда говоришь правду, не так ли?
— Всегда. Но...
— Иногда для того, чтобы поверили, достаточно слегка исказить истинное положение вещей, и только. Ты это понимаешь, но продолжаешь говорить правду. Так?
— Так.
— Вот оно, настоящее испытание честности — испытание недоверием. Классика. Ты сбежала, чтобы не скрывать своих намерений уехать после окончания школы из дома навсегда, чтобы и в этом не быть нечестной. Ведь это именно так, Женя?
— Да, вначале я вынашивала именно такой коварный план — после окончания школы поступать в институт в Питере или в Москве и больше никогда не возвращаться домой. А, когда мама эту путевку байдарочную по озерам купила, меня как током ударило: грести две недели — мне, с моей больной спиной! Да я десяти минут не смогла весла в руках удержать, когда однажды попробовала грести. Как же нужно было свою дочь все эти годы не слышать, чтобы не знать, что у меня ужасно болит спина, когда я даю на руки нагрузку или поднимаю тяжести! Это у меня после того, как меня палкой били по спине — когда в детстве после идиотской дядилёниной выходки добиралась домой, я вам рассказывала. Маршрут байдарочного похода начинался в Выборге, а это в двух шагах от Питера... По всему получалось, что проще уехать сейчас, чем ещё два года кривить душой, делать вид, что всё в порядке. В институт ведь можно потом и после техникума поступить.
— Можно. Только вот какая штука, девочка: честность — недешевая штука, она не каждому по карману.
Добрый Дядя с силой потер подбородок и впервые посмотрел на меня тем особенным взглядом, который я ещё долго не понимала — он был грустный, строгий и нежный одновременно. И было ещё что-то такое в этом взгляде, что и пугало, и нравилось, очень-очень нравилось.
Дидану тогда было под пятьдесят, но старым он мне никогда не казался. Когда мы с ним повстречались, он был высоким плотным мужчиной, без намека на брюшко или какую-нибудь другую обрюзглость. При этом он имел крупный, абсолютно лысый череп, что должно было по молодой глупости казаться мне смешным, но не казалось — столько в нем было тяжеловатого мужского обаяния. Но перейдем ко второму Потрясающему Открытию.
Тогда я только начала осматриваться в Москве, возвращалась на Володину квартиру переполненная впечатлениями. А там меня поджидали новые — я слушала бесконечные разговоры друзей-художников, которые они, сменяя друг друга в доме, вели во время нескончаемого застолья. Пили они, вроде бы, много, но не то чтобы пьяных, даже сколько-нибудь заметно нетрезвых я там не встречала. Я могла уходить к себе в комнату, могла сидеть возле них, они моего присутствия или отсутствия, как мне казалось, особо и не замечали. Но однажды худой и неопрятно одетый художник, которого все называли Толиком, что мне казалось странным — я считала его совсем стариком, глядя мне в лицо тяжелым взглядом, медленно, с расстановками, но твердо заговорил своим треснутым голосом:
Читать дальше

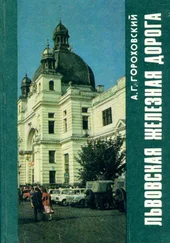

![Юрий Романенко - Взгляд через годы [Южная железная дорога за 130 лет]](/books/35651/yurij-romanenko-vzglyad-cherez-gody-yuzhnaya-zheleznaya-d-thumb.webp)
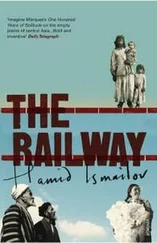

![Колсон Уайтхед - Подземная железная дорога [litres]](/books/411182/kolson-uajthed-podzemnaya-zheleznaya-doroga-litres-thumb.webp)