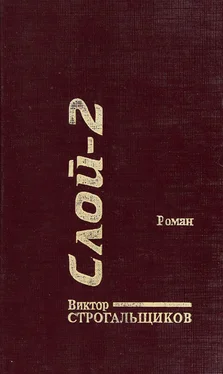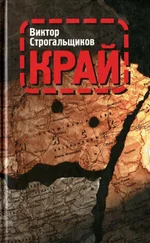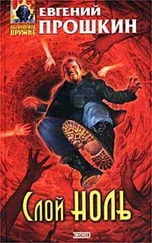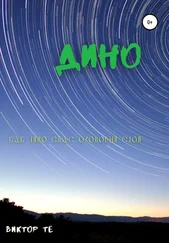Он собрал обрезки «вагонки» в специальный растопочный ящик, вымел начисто пол и понес мусор на улицу к большому железному баку, темневшему косо на краю участка возле соседских плодовых деревьев, редкими вениками царапавших осеннее близкое небо. У соседа горел свет, но самого видно не было в окне: улегся, наверное, по-стариковски, а вот Слесаренко спать не хотелось, и он вернулся в дом, надел старую болоньевую куртку, лыжную шапочку, запер дверь на веранде, вышел на узкую улицу и двинулся по ней в сторону ближней рощи, за которой было и озеро и рыбацкие мостки, где Виктор Александрович любил сиживать летними вечерами, когда ветром с озера разгоняло комаров. Уже на полдороге он вспомнил про забытые на столе сигареты, но решил не возвращаться: потерпит, подышит на ночь свежим воздухом. Но когда пришел на берег, сел на стылые влажные доски, спустив ноги к воде, и вспомнил Колюнчика и Танечку Холманскую, и глупый ее шепот кто услышит? – когда одевались в прихожей, за окнами сигналил подъехавший муж, и Танечка сказала: «Запомни, Витя, ты у меня как свет в окошке, на всю жизнь», – курить захотелось до сухости в горле. Ну почему, почему люди так любят говорить ненужные слова! Слесаренко тогда промолчал, лишь улыбнулся неискренне и виновато, а сейчас вспомнил об этом с запоздалым и таким же ненужным раскаянием. Что он мог ей сказать? Ничего.
Кулагина было жалко. Любой человек мог погибнуть, случайно или по чужому умыслу, но вот эдак в подъезде, в затылок два раза, как бродячую собаку!..
Слесаренко видел в детстве, как стреляли приблудных собак. Была кампания, по городу ездили в грузовике мужчины с ружьями, заходили во дворы и стреляли. По радио объявили с утра, чтоб до полудня держали детей по квартирам. Они с другом бегали от окна к окну, всё ждали когда. И наконец-то серый грузовик приехал к ним во двор, мужчины с ружьями полукольцом пошли к помойке, три собаки рванулись оттуда в одну сторону, спина к спине, как в упряжке, глупые, надо бы веером, люди с ружьями стреляли навскидку, чуть ли не под ноги друг другу, и потом ругались матом и замахивались весело, закуривали папиросы, совсем не глядя на лежащих между ними убитых маленьких собак. Люди никого не убивали, люди делали работу – им платили поштучно. Вот и за Колю Кулагина кто-то умелый и смелый получил уже свою зарплату или получит вскоре, и проверит, полна ли сумма, спрячет деньги в карман и пойдет жить и убивать дальше, совершенно безразличный к обрываемым жизням безразличных ему незнакомых, ненужных людей.
«Если б ты забрал Колюнчика с собой...».
Как ни странно, но Виктору Александровичу стало легче, когда он признал свою вину в смерти Кулагина. Было очень покойно ему сидеть вот так, в темноте, замерзшим задом на мокрых досках, и терзать себя сладостной болью вины, представляя, как всё могло случиться по-другому. Был бы сейчас Колюнчик на месте Чернявского, командовал трестом, владел бы самолично «гусаровской» базой, они приезжали бы туда с Оксаной... «Мерзавец», – сказал про себя Слесаренко.
Подтянув ноги, он неуклюже поднялся на мостках и зашагал к берегу, опасливо проверяя весом пружинившие доски. Поднялся на берег и в створе своей улицы свернул направо, к дому сторожа, где был телефон. Набрал городской номер и позвонил; знакомый сторож понятливо вышел в сени и возился там, пока Виктор Александрович говорил по телефону.
В своем доме он взял сигареты и спички и неспешно отправился к выезду из «городка», времени было с избытком. Он сказал ей по телефону: «Встречу на повороте».
Слесаренко миновал въездные столбы с указателем и вышел на обочину шоссе, где было ветрено и холодно, как на озере. Внутри «городка» дома и деревья гасили сквозняки своим густым лабиринтом. Он выкурил кряду две сигареты и уже закуривал третью, когда приближавшиеся фары на шоссе замедлили движение и полоснули в сторону.
– Здравствуй, – сказал Слесаренко.
– Ой, как холодно, – ответила Оксана.
Он ничего не сказал ей тогда про кассету, не звонил только несколько дней, но такое случалось и раньше, а потом позвонила она в кабинет по прямому, говорила про взрыв, уже наслушалась разного от доброхотов, и Виктор Александрович, наперекор сознанию и принятому ранее окончательному мужскому решению, вдруг стал извиняться и ластиться, попросил разрешения заехать. Оксана с деланной обидой в голосе переспросила: «Заехать или приехать?». Он бросился оправдываться за оговорку: «Ну что ты, Кся, конечно...». Приехал полседьмого, были постель и чай с брусничным вареньем, и Оксанины милые страхи: «А если бы, а если бы?..». Уехал на такси до мэрии, оттуда шел домой пешком, как с совещания, явился в дом нахмуренный и немногословный, ужинать отказался и сидел допоздна в кабинете над бумагами. Домашние передвигались за дверью на цыпочках – отец устал, отец работает. И только внук с безошибочным детским чутьем на неправду стучал в двери и требовал доступа к деду. Слесаренко не вышел к нему и голос не подал. Разревевшегося внука увели в кровать. Стыдно было до чертиков, и поэтому Виктор Александрович ещё больше замкнулся и несколько дней был придирчиво-холоден с женой, словно та, а не он, была виновата, и допекал нравоучениями младших.
Читать дальше