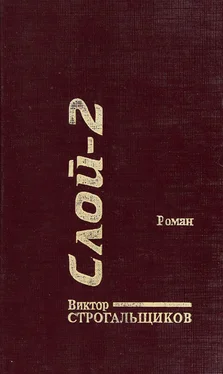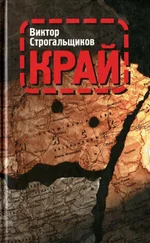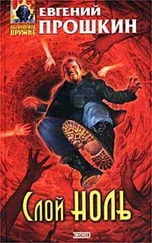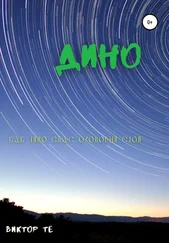– Мур, – произнесла Оксана и потерлась головой о его подбородок.
Он знал, что если ей скажет сейчас: «Поставь чашку на стол, пожалуйста», – это будет хорошо и правильно, и если не скажет – тоже правильно и хорошо. Их близость не была для них ни запретным плодом, ни даром из милости, а потому, когда всё заканчивалось, Виктор Александрович не мечтал о немедленном побеге. Им было о чем говорить и молчать вдвоем, и он оставался с ней подолгу, насколько позволяли другие обстоятельства, ибо знал: всегда может уйти и всегда прийти снова.
– Я, может быть, уйду с работы.
– Тебя выгоняют? За что? Ты столько работаешь, так стараешься...
Скажи кто другой эти банальные «столько» и «так стараешься», Слесаренко бы немедленно обиделся, посчитав, что из жалости, хотя он действительно много работал и старался делать свою работу честно. Ложный стыд – прятать тело и правду – сидит у людей в крови. Он решил рассказать всё.
– Понимаешь, в Сургуте рядом со мной убили человека. Ради Бога, успокойся, я оказался рядом совершенно случайно, мне ничего не сделали, только напугали до смерти, и то не сразу: ты же знаешь – до меня доходит как до жирафа. В общем, я тут совершенно ни при чем, никаких намеков и подозрений, но пока идет следствие...
– Тебя отодвинули, – сказала Оксана.
– Ну нет, почему отодвинули... Слушай, Кся, ты нашла очень точное слово.
– Чтобы не запачкаться.
– В принципе, да, ты опять права. Чтобы не запачкаться...
– И ты обиделся.
– Нет, не обиделся, это другое.
– Ты обиделся, Витя.
– Да, я обиделся! – чуть ли не выкрикнул Слесаренко. – Я столько лет у них у всех на глазах! Они знают меня как... облупленного! – Не нашел другого слова. – Как... Господи, столько грязи вокруг, всё на виду, и все терпят, не замечают, или вид такой делают, а здесь... Обидно страшно.
– И ты решил уйти насовсем.
– Но не только поэтому, Кся, не только поэтому.
– Ты же любишь свою работу, Витя.
– В Сургуте один старый знакомый назвал мою работу бардаком.
– Он не прав, Витя. Он просто многого не знает и судит поверхностно. А я знаю.
– Да что ты знаешь!.. Ты тоже... Так, со стороны.
– Я с твоей стороны, Витя.
– Ну и зря, – сказал Слесаренко и поцеловал ее в макушку. На другой стене висело зеркало, в нем торчала слесаренковская голова и ерошился краешек Оксаниных волос. Виктор Александрович и его отражение враз показали друг другу язык.
– Ты знаешь, я вдруг понял, что у меня нет честолюбия. Я не хочу быть мэром, не хочу быть губернатором, совсем не хочу быть президентом.
– Это хорошо, – сказала Оксана.
– Нет, милая, это плохо.
– Это помогает тебе хорошо делать ту работу, которую ты делаешь. Тебя, кстати, за это и уважают в городе, что ты никуда не рвешься и никого не подсиживаешь.
– Я бы рад был с тобой согласиться. Честно-честно, был бы очень рад. Но моя беда в том... Я понял это совсем недавно, поверь мне: власть, управление – это особый мир, особый вид работы, отношений между людьми. И как ни печально, милая, для меня лично – поздновато догадался, – но отсутствие честолюбия, стремления вверх... Вот черт, не могу выразить... Понимаешь, честолюбие заставляет человека делать больше, чем он делает.
– Не всегда.
– Согласен, не всегда, есть и такое понятие, как показуха и надувание щек. Но если человек не рвется, не стремится выше, он не видит дальше... края. И я понял, что по-настоящему добиться чего-то, в том числе и для людей, а не только для себя, может только... этот, рвущийся. Мне не стыдно за то, что я делаю, но я... Как тебе объяснить. – Он замолчал, мучаясь невыразимостью совсем, казалось бы, простой мысли. – Там, в Сургуте, Горбенко... Ну, этот знакомый, неважно, сказал такую фразу: «Всё должно быть совсем по-другому». Так вот, я очень хорошо делаю свою работу, но я делаю... Как есть, как ещё до меня сложилось, и сломать это «как есть» может только тот, который рвется. А я не рвусь. И это плохо, я понял – это плохо. Для меня, для всех...
– А может, ничего ломать и не надо, Витя? Люди живут, надо просто помогать им жить, хватит революций, наверное. И так одно сломали, другое построить не можем.
– В том и беда, что разломали, но не снесли. Строим из старого, а это ещё хуже. Нет, ты представь: стукнули по дому большой кувалдой, а потом залезли внутрь и стали подпирать стены, подымать рухнувшие потолки... Вместо кухни сделали прихожую, вместо прихожей – туалет. И всё время что-то падает на голову. Короче говоря, перестройка. Именно перестройка – ремонт, а не новое. А ощущение такое, что чем дольше и больше мы перестраиваем, тем сильнее опасность, что скоро рухнет и всех задавит. Притом задавит как раз тех, кто не виноват. Те, кто виноват, стоят снаружи и командуют. Да, я внутри, я честный работник. Но изнутри ничего не видно! Там, внутри, можно только таскать камни от стены к стене. Увидеть и решить что-то можно только снаружи. И мое место, по должности, – там, снаружи, а я не рвусь туда: не могу и не хочу. Я так устроен. Получается, я занимаю чужое место. И если я честный человек – а я хочу считать себя честным человеком, – я должен, обязан уйти.
Читать дальше