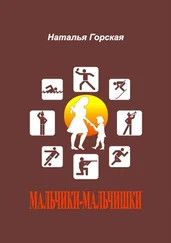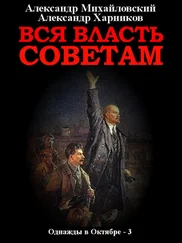– Ну, так. Вроде бы. Раньше-то было десять…
– Да я не про раньше, а про сейчас. Из них тысяча – это дети, школьники, студенты, молодёжь. Ещё две тысячи – их родители, которые пока до пенсии не дожили. А остальные – это мы, пенсионеры. И если наши пенсии вместе сложить, то получится солидная сумма. Один полторы тысячи рублей получает, другой – две тысячи. Это сколько будет, если полторы-две тыщи рублей помножить на две тысячи пенсионеров?
– Да-а… Капитал, однако.
– Вот то-то!
– И зачем такую сумму тратить на столь незначительное дело? – спросил Лёха-Примус, лузгая семечки. – Дали бы всё кому-то одному.
– Тебе, например, – подсказал дед Рожнов.
– Ага! Уж я бы нашёл им достойное применение. А то раздадут всем по копейке, и останется от реальных деньжат один пшик. А зачем? Нет, такие-то деньги, да одному бы человеку в руки…
– Ну вот, ещё один кандидат в большие люди с большими потребностями на законных основаниях, – вздохнул Глеб Гермогенович, и Лёха сразу как-то сник.
Повисла неловкая пауза.
– Лучше послушайте, как Пушкин описывал Москву начала девятнадцатого века, – вдруг сказала Марина со своего подоконника и прочла: – «Огромные боярские дома стоят печально между широким двором, заросшим травою, и садом, запущенным и одичалым… На всех воротах прибито объявление, что дом продаётся и отдаётся внаймы, и никто его не покупает и не нанимает. Улицы мертвы; редко по мостовой раздаётся шум кареты; барышни бегут к окошкам, когда едет один из полицмейстеров со своими казаками. Подмосковные деревни также пусты и печальны. Роговая музыка не гремит в рощах Свирлова и Останкина… Барский дом дряхлеет. Во флигеле живёт немец управитель и хлопочет о проволочном заводе. Обеды уже даются не хлебосолами старинного покроя, но обществом игроков, задумавших обобрать юношу, вышедшего из-под опеки. Московские балы… Увы! Посмотрите на эти домашние причёски, на эти белые башмачки, искусно забеленные мелом… Кавалеры набраны кое-где – и что за кавалеры» [7]
– Ну и что? – скривился Лёха.
– Так это же про наш город, – воскликнула Светка Ерёмина. – В точности! Брошенные дома никто не покупает и не нанимает. Кавалеров даже кое-каких нет. Вчера у магазина буянил Ромашкин, зрители рады были, что хоть какое-то представление довелось увидеть. И опять же какой-то немец приехал строить очистные сооружения на комбинате, а то у наших деятелей своих забот невпроворот. И поселили его как раз в мезонине Генераловой дачи!
– Надо же! – удивился дед Рожнов. – Останкино когда-то было деревней… Даже не верится.
– Вот я и думаю, – замечталась Марина, – что когда-нибудь и у нас город станет благоустроенным и красивым…
– Как Москва? – закончил её мысль дед Рожнов. – В каком году Пушкин это написал?
– Это? – Маринка закопошилась в конце книги. – Это… это… закончено в апреле тысяча восемьсот тридцать четвёртого года, опубликовано в тысяча восемьсот сорок первом году.
– О-о, то есть почти два века тому назад. Ну-у, совсем немного ждать осталось! – засмеялись в обеих очередях. – Дотянем! А то! Даёшь благоустроенный город к двадцать третьему веку.
– Да ну вас, – обиделась Маринка и опять углубилась в чтение.
– Всё не о том думаете, – опять что-то грыз Лёха-Примус. – Вот вы меня дураком считаете, а я вспомнил, как мне бабка ещё в детстве рассказывала, что ещё до Петра Первого наша область входила в состав то ли Швеции, то ли Финляндии.
– Швеции, – подсказал Глеб Гермогенович. – Финляндии тогда ещё не было.
– Ну вот. А не попроситься ли нам обратно?
– Ха-ха-ха!
– «Ха-ха-ха», – передразнил Лёха. – Чего смешного-то? В Финляндии, говорят, даже тропинки в лесу заасфальтированы или брусчаткой выложены. Там вообще нет такого слова, как «бездорожье». Вот мы побудем в составе их империи, и глядишь – у нас хотя бы проспекты асфальтируют. Просит же Япония у нас Курилы. А что если Финляндия тоже захочет кусочек земли, который раньше её частью был?
– От земли-то они не откажутся, но вот нас вряд ли возьмут, – смеялась бабка Евдокимовна. – Как увидят нас, у них и капитализм пошатнётся.
– У них не капитализм, а социализм самый настоящий, – не согласился Рожнов.
– Всё гласность проклятая виновата, – проворчал Глеб Гермогенович. – Задурили народу голову импортной жизнью, вот и страдают теперь, сравнивают, что у них там, мол, даже в общественных туалетах настоящие унитазы стоят, как троны. А у нас до сих пор на доске с дыркой сидят, как птичка на жёрдочке. Надо пятьдесят восьмую статью назад вернуть, чтобы все боялись рот раскрыть, как там у них живут и как тут у нас выживают. Была раньше такая хорошая статья: от пяти до семи лет давали. После войны по ней многие спалились. Тогда наша армия в Европе побывала, увидела, как «обречённый на загнивание» капитализм живёт. В Германии уже тогда такой уровень жизни был, какого у нас до сих пор не наблюдается. Автобаны были, каких у нас до сих пор нет. Мой батька об этом только обмолвился и сел на пять лет. Потом даже шёпотом боялся сказать, что тогда в Германии чуть ли не телевизоры видел, а в Чехии дома с лифтами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу