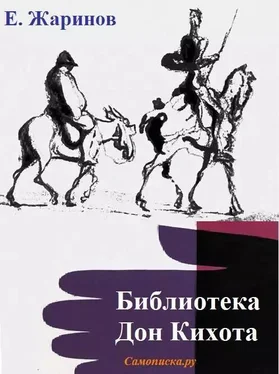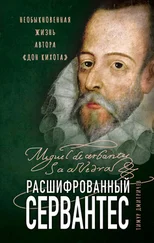Испанский пейзаж за окном аж подпрыгнул от неожиданности. Автобус подбросило, словно колесо попало в выбоину.
Neoplan остановился. Из искусственной прохлады салона пришлось выбираться в зной, который, несмотря на вечер, не ослабевал.
На reception'е выдали ключи от номера. Комната оказалась декорированной под мавританский стиль, больше похожий на китайскую подделку. В глубоких нишах в стене уже горели светильники, отдалённо напоминавшие серебристые арабские лампы. Среди них могла оказаться и лампа Аладдина, из которой в любую минуту собирался выскочить Джин-переросток, этакий качок из фитнес клуба, с бутылкой coca-cola в руках: «Пейте только охлаждённой».
Щека продолжала гореть. Из теперь уже далёкой Москвы донёсся ещё один отрывок воспоминаний: первокурсница, не будь дурой, тут же протянула ошалевшему наставнику зачетку и сунула её прямо в нос. Не растерялась, стерва — ведь пить надо только охлаждённой. Её так учили рекламные и телевизионные гуру, эти джины из бутылки.
— Отметку исправьте, а?
Одна бьёт, другая пользуется моментом — конвейер, да и только.
Ну, что же ты хочешь — всё преподавание уже давно превратилось в образовательные услуги, и профессор даже не заметил, как из разряда неприкасаемых перешёл в разряд слуги, ресторатора, метрдотеля.
— Кушать подано, чего изволите-с? Что у нас новенького спрашиваете-с? А вот — рекомендую: испанское блюдо, острое как южная страсть. Блюдо дня. «Дон Кихот» называется.
— Кошмар! Тухлятина какая! Получи, гад!
— Дай! Дай ему, девушка! Пусть свеженькое подаст! Ишь — классик! Знай наших!
Короче, полетела, полетела по миру во все стороны «прожорливая младость», словно настал тот самый день, день саранчи.
Бросив чемодан прямо на пол, профессор тут же выскочил на улицу. Его давила вся эта обстановка фальшивого модехо. Хотелось до темноты посмотреть, что это такое, Альгамбра, Красная крепость, жемчужина мавританской архитектуры.
Ноги несли сами. Пришлось бежать. Начался резкий спуск в глубокую и узкую ложбину, среди густых рощ. Сердце забилось. Вверх вел крутой склон в узорах дорожек, обставленных каменными скамейками и украшенных фонтанами. Слева над самой головой нависали башни Альгамбры, справа, на другом краю ложбины, возвышались на скалистом выступе ещё какие-то башни. Их называли алыми по цвету камня. Они были гораздо древнее Альгамбры. Их выстроили либо римляне, либо, того древнее, финикийцы. Казалось, что в этой ложбине, как в речной заводи, время прекратило свой бег и все застыло. Лишь торопливые движения пришельца нарушали вековой покой. Он бежал так, будто знал, что его уже ждали. Альгамбра, Красная крепость, — она защитит. Защитит от московской пошлости, от сумасшедших девиц с обложки на высоких каблуках и с зачётками… Здесь, в ложбине, были бессильны флюиды большого мира. Они сюда не доходили, как радиоволны не могут проникнуть сквозь толщу земных пород, хранящих память веков, и различные окаменелости, которым миллионы лет, гасят голоса теле- и радиоведущих.
Что тянуло его в эту самую Альгамбру? Что заставляло ноги лететь, не чувствуя под собой почвы, к самым Вратам Правосудия?
Дело в том, что он где-то вычитал историю о Прощальном вздохе Мавра. Мавр этот был никто иной, как Боабдил, последний правитель Гранады, который, сдав город христианам, заехал напоследок на самый высокий холм, окинул взором оставленную им Альгамбру и дал волю рыданиям.
Профессору казалось, что он обязательно вот сейчас, вот в этот самый момент, в этот удивительный вечер всем существом своим, всем сердцем, всей болью ощутит этот плач, эту скорбь и услышит тот последний, тот неповторимый, тот прощальный. Прощальный вздох. Вздох Мавра…
Это был вздох, но не сожаления оставляющего свои владения правителя, а вздох, как казалось профессору, всех умерших, всех неожиданно отлетевших душ. В этом вздохе, наверное, застыло удивление, удивление от скорого расставания с тем, что было так дорого и что приносило такую радость.
Профессор вдруг вспомнил умершего друга, который во время сердечного приступа взошёл на ступеньку своей подмосковной дачки, глубоко вздохнул и присел неожиданно, словно взял — и сдулся, сдулся, как детский резиновый мяч, напоровшийся на гвоздь. Друг сдулся и присел, удивлённо глядя на выращенную им одинокую розу, уже успевшую утратить от сентябрьских заморозков свою былую красоту. Роза, кажется, как и Альгамбра, была красной. И Прощальный вздох Мавра должен был оживить её.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу