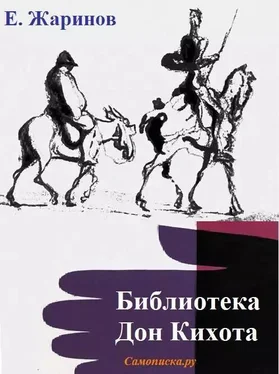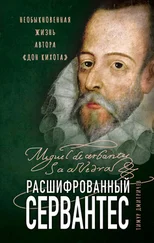— Союз, говорите?
— Да, союз.
— А название какое-нибудь придумаем? Например, «Меча и орала». Я сойду за последнее, за орало, за плуг, значит. А вы уж за меч: быстрота решений, натиск, стратегия, одним словом.
— Не иронизируйте, пожалуйста, и не придирайтесь к словам. Союз — это всего лишь слово, но суть-то, суть-то вы уловили? Или хотите остаться пешкой и до конца сыграть роль обезумевшей наживки?
— А согласитесь: заманчивая роль: следить за тем, как сходишь с ума или как тебя с ума сводят и сводят умело, тонко манипулируя твоим сознанием? И проделывает это все с тобой та самая Книга, о которой так много говорят в определенных кругах. Я начну заговариваться и бредить как Родион Раскольников или как Алонсо Кихано Добрый, а вы сделаетесь моим секретарем, моим доктором Ватсоном. Ого! Смотрите, какие широкие обобщения начали вдруг давать знать о себе. Ведь Шерлок Холмс в какой-то мере относится к разряду гениальных сумасшедших: он с помощью морфия лечится от меланхолии, играет на скрипке, а в периоды просветления прозревает все тайны зла. Чем вам не образ гениального безумца? Изощренный мозг сыщика с Бэйкер стрит все время скользит на грани. Ход его полубезумной мысли непонятен среднему англичанину викторианской эпохи доктору Ватсону. А сам Шерлок занят лишь саморефлексией, он внимательно следит за тем, какие еще безумные на первый взгляд откровения, основанные на сочетании внешне несочетаемых явлений, преподнесет ему собственный не совсем нормальный разум. А доктор Ватсон, между тем, записывает все слово в слово, а в результате на свет появляется бестселлер на все времена. Чем это не наша с вами ситуация? Знаете, я добровольно готов расстаться со своим так называемым здравомыслием, я готов без остатка отдаться Книге и меня не испугал ваш жуткий шрам, наоборот, вдохновил даже. Как доктор Ватсон вы все время будете рядом, чтобы в точности записывать мой бред, на который и вдохновит меня искомый Объект. Хотя один вопрос все-таки тревожит меня и тревожит не на шутку.
— Это какой же?
— Судьба близких. В этом вы, господин Грузинчик, абсолютно правы. Родные люди ни в чем не виноваты. А Книга наша до жертв, да еще до невинных, жадна необычайно. Ей только их и подавай. И, кажется, чем больше, тем лучше. Вон какая толпа идиотов сразу последовала за вами и начала у всех на глазах себе руки рубить.
— А что я вам говорил?
— Постойте, постойте, господин писатель, я что-то не пойму, а ваш-то здесь интерес все-таки какой? Вы же, наоборот, напрямую должны быть заинтересованы в собственной славе. А она, слава ваша, напрямую связана с моим сумасшествием. Вы же честолюбивы и амбициозны и отрицать это бессмысленно. Разве не так?
— Все так, хотя и немного обидно слышать такое в момент моего откровения. По логике вещей, мне бы только радоваться вашему возможному безумию, тихо сидеть в сторонке да потирать руки. Мне оставалось лишь помочь вам вступить в контакт с Книгой и ждать, когда вы превратитесь в Кумранскую Сивиллу. Все так. Вы абсолютно правы. Не скрою, перспектива мировой известности и славы, может быть, равной бессмертной славе Сервантеса, меня прельщала. Вот так — взять да и вырваться из разряда модных борзописцев в высшую лигу, в лигу бессмертных. Чем не перспектива! Не скрою, эта мысль мне согревала душу. Но…
— Что но? Говорите, говорите…
— Страх! Вот мое но, вот что держит меня и путает все карты. Страх! Да, Страх! Такого Ужаса я не испытывал за всю свою жизнь. Понимаете, он неописуем, необъясним. Вы думаете, отчего я себе тогда в Ленинке руку-то оттяпал?
— Хотите сказать из-за этого самого Страха?
— Вот именно. Если сказать, что я испугался, значит не сказать ничего. Пугаются бандита, который грозит вам пистолетом, пугаются милиционера с дубинкой в участке: почки может отбить, наконец, врача на обследовании, который может сообщить вам о неутешительном диагнозе. Это все я и называю — испугаться. Но все это, хотя и страшно, но не так, как в моем случае.
— Не скажите. С врачом вы точно заметили. Все под Богом ходим. Никто умирать не собирается — и вдруг. Тут все похолодеет. Тут в поту просыпаться начнешь.
— Согласен. Но все равно, поверьте, это не сопоставимо с том Ужасом, о которым я сейчас пытаюсь вам рассказать. Именно Его я и пережил, перед тем как руку себе отсечь.
— Знаете, господин писатель, а ведь в ваших словах что-то есть. Я начинаю вам верить. Мне кажется, что сейчас вы очень искренни.
Неожиданно Грузинчик, сидя на скамейке во дворе гранадского университета, принялся раскачиваться взад-вперед, словно стараясь убаюкать раскричавшегося во сне младенца. Правда, вместо младенца он укачивал свою правую руку, нежно прижимая ее к груди. Казалось, что рассказав о своем Страхе, он словно вызвал Тень Ужаса к жизни, и рука заныла вновь нестерпимой болью. Перевязь, в которой рука и покоилась, была из тонкого черного шелка. Но сейчас она уже не казалась Воронову какой-то пижонской. Слишком необычной казалась и вся эта встреча, и сам разговор по душам. И в следующее мгновение Воронов почувствовал, как у него у самого по спине побежали мурашки. Еще ничего не было сказано конкретно про этот Страх, его лишь назвали, слегка обозначили в бессвязной речи, но фигура раскачивающегося писателя была красноречивее любых слов. Воронов даже подумал, что еще не известно, кто из них двоих быстрей с ума сойдет. Во всяком случае в данный момент Грузинчик оказался к этому краю ближе.
Читать дальше