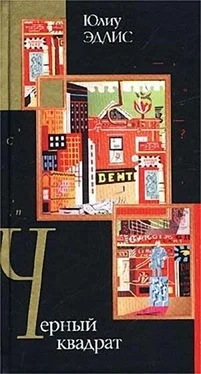Но он ни словом не обмолвился об этом новом и незнакомом ему чувстве, не чувстве даже, а скорее пред-чувствии, а Ольга и не услышала, не угадала эти его мысли, до него ли ей, и продолжала все так же спокойно и рассудительно говорить о том, как славно устроится судьба Миши, то есть о собственной смерти, которая была для нее лишь одним из огорчительных обстоятельств, ставящих определенные трудности перед тем, чтобы как можно продуманнее, осмотрительнее и дальновиднее устроить будущую — уже без нее — судьбу сына.
А Миша рассматривал — из одной вежливости, потому что он уже читал сочинения и посерьезнее, — книжки с картинками, которые ему принес Рэм Викторович, и, несмотря на запрет матери, поедал одну за другой конфеты «коровка».
И ни с ее стороны, ни с его — никаких «а помнишь», никаких попыток если не оживить, так хоть помянуть — добрым ли, худым ли словом — их общее прошлое. «А ведь было же, было, было!» — хотелось Рэму Викторовичу напомнить Ольге, но не осмелился, да и знал: не нужно. А будущего у них не было, и не только у Ольги, но и у него самого. Не станет Ольги, как не стало у него Нечаева, как не стало Анциферова, скоро уедет Саша со своим Анциферовым — мнимым внуком, которого, признаться, он тоже так и не сумел полюбить и, как и мнимого деда, называет про себя не иначе как Люцифером, «князем тьмы»: увел у него дочку, единственного человека, в чью любовь к себе Рэм Викторович верил, а теперь вот еще и увозит за тридевять земель… конечно же, Люцифер, весь в деда!..
— Ты иди, — неожиданно сказала ему Ольга, — мне Мишаню обедом кормить надо, он при посторонних плохо ест. Хотя какой уж тут обед, когда он объелся твоими конфетами! А ведь говорила Саше, предупреждала: никаких сладостей не надо! — И при этом смотрела на сына с такой любовью и преданностью, что, понял Рэм Викторович, любой посторонний ей помеха. — Иди, еще увидимся, времени у нас еще вагон. — А посмотрела на него так, что он понял: приходить больше не надо. Кроме Миши, у нее на этом свете никого уже нет, и никто ей не нужен, а вот на том свете, сказала ему слабая и чуть насмешливая ее улыбка, на том свете отчего бы и не повидаться?..
Когда он уже был в дверях, окликнула его:
— Вот что… Не знаю, будет ли у меня время повидать Левинсона… Ему еще два года сидеть…
— Сидеть?.. — удивился Рэм Викторович. — А что с ним стряслось, с Левинсоном?
— Ты откуда свалился?! С луны, что ли?
— С дачи… — невпопад ответил он, и в ответ увидел в Ольгиных глазах что-то очень напомнившее ему презрение, которое он прочел целую жизнь назад в глазах Анциферова на заснеженной скамейке у Большого театра.
— Тогда я и не знаю… — не могла решиться она, но все-таки решилась. Подошла к комоду, порылась на дне нижнего ящика, достала оттуда не то толстую тетрадь, не то конторскую книгу, неуверенно протянула ему. — Больше мне ее оставить некому. Вернется Исай, услышишь о нем — отдашь. Да он сам тебя найдет, он про нас с тобой знает. Читать тебе это не обязательно, да и ничего для тебя интересного, хотя наверняка не удержишься. И — никому ни слова, да ты и сам не захочешь. И иди, а то как бы не раздумал брать. Или я раздумаю. Положи в портфель. Иди.
В электричке, по дороге домой, Рэм Викторович, благо вагон был пуст, все-таки достал тетрадь из портфеля, заглянул в нее: то была не тетрадь, а лишь обложка общей тетради, а в ней, на папиросной тончайшей бумаге, листок к листку, аккуратно отпечатанные на машинке столбцы фамилий, имен и отчеств, против каждой фамилии стояли, — Рэм Викторович не сразу угадал, что они означают, — примечания: «58/1/а», «58/11» — почти все записи начинались с цифр «58», а рядом еще — «10 лет, отбыл 4». «8 лет, отбыл 2», «Помещен на принудительное лечение», — и он понял, что это списки арестованных, приговоренных, посаженных, высланных, упрятанных в психушки. Так вот в чем была Ольгина «левая работа», вот почему Саша на его вопрос отвечать не захотела! Вторая, другая ее жизнь, которой она заполняла пустоту первой и о которой никто, даже наверняка и Нечаев, не догадывался…
Но вовсе ошеломила его подпись, стоявшая под каждой страницей, — он заглянул в конец, всего страниц было восемьдесят четыре, — «Председатель Московской Хельсинкской группы Исай Левинсон».
Тот самый Левинсон, Исайка, как называл его снисходительно Нечаев, с которым он годы и годы пил водку в нечаевской мастерской и которого всегда считал хотя и искренним, честным человеком, но слишком восторженным и наивным, чтобы быть способным на настоящее, реальное и небезопасное дело…
Читать дальше