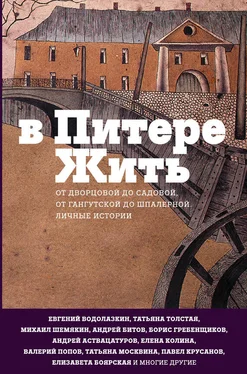Из окна этого кабинета был хорошо виден Большой дом.
Как я теперь понимаю, этот чиновник, как всякий чекист, более известный по незапоминаемому имени-отчеству, чем по фамилии, был здравым и не смущенным идеологией человеком.
«Я тебя понял, – сказал он мне, – но и ты меня пойми: предоставить тебе сейчас квартиру я не смогу.
Заявление я, конечно, приму, но тебе придется ждать очереди. Да и дом когда еще достроят… а тут прямо завтра. Квартира хоть и коммунальная, зато на Невском проспекте – и две очень красивых комнаты в старинном доме, высокие потолки. Тебе может так понравиться, что ты и не захочешь ни в какое Купчино, куда наш старый комсомольский поэт Семен Бытовой как раз и переселяется».
Надувшись на предпочтение Бытового Битову, я все же решил взглянуть на дом – Невский проспект как-никак! Гоголь, Пушкин… Подойдя к дому 110, я расхохотался: прямо около арки двора стояла та телефонная будка, в которой ночью я пытался поселиться! «Навеселе, на дивном веселе, я находился в ночь под понедельник…» – опять же напротив Горбовского. Погляжу и к нему загляну: как он там? Опять же повод.
Флигель мой стоял в глубине двора, поперек, и был он построен за век до меня, чуть ли не при жизни Пушкина.
В квартире жило четыре семьи. В конце коридора помещался гнилой сортир, а из барской комнаты Семена Бытового были видны старые вязы плюс тополь и прилепившийся гнездышком к брандмауэру очаровательный домик с деревянной галереей, нечто тифлисское или даже голландское. Под галереей, как скульптура, ржавело авто двадцатых годов. «Последний частный дом на Невском проспекте», – с гордостью пояснил мне Бытовой. «Частный? – удивился я. – Значит, его можно перекупить…» – «Что вы! – возмутился Бытовой. – Борода никогда его не продаст». Борода оказался не меньшей достопримечательностью двора, чем его дом и авто.
Что ж, и чекист, и мама оказались правы. Комнаты мне понравились, мы переехали и через год разошлись.
Даже Семен Бытовой оказался прав: Борода не продал мне домик.
Нет, бывает все-таки польза от текста, пусть даже смехотворного… память! Когда все было не так и все еще были живы.
День рождения
(27 мая 1972 года, Невский проспект, 110)
Оставим этот разговор
Нетелефонный. Трубку бросим.
В стекле остыл пустынный двор:
Вроде весна. И будто осень.
Стоп-кадр: холодное окно,
Ко лбу прижатое в обиде…
Кто смотрит на мое кино?
А впрочем, поживем – увидим.
Вот радость моего окна:
Закрыв помойку и сараи,
Глухая видится стена,
И тополь мой не умирает.
Печальней дела не сыскать:
Весну простаивая голым,
Лист календарный выпускать,
Вчерашний утоляя голод.
У молодых – старее лист.
И чуждый образ я усвою:
Что дряхлый тополь шелестит
Совсем младенческой листвою;
Что сколько весен, столько зим…
Я мысль Природы понимаю:
Что коль не умер – невредим.
Я и не знал, что это знаю.
Вот стая вшивых голубей,
Тюремно в ряд ссутулив плечи,
Ждет ежедневных отрубей
(Сужается пространство речи!) —
И крошки из окна летят!
Воспалены на ветке птицы:
Трехцветный выводок котят
В законных крошках их резвится.
Вот – проморгали утопить —
И в них кошачьей жизни вдвое:
Проблема «быть или не быть»
Разрешена самой собою.
Их бесполезность – нам простят.
Им можно жить, про них забыли…
И неутопленных котят
Подобье есть в автомобиле:
Прямоугольно и учтиво,
Как господин в глухом пальто,
Среди дворовой перспективы
Стоит старинное авто.
Ему задуман капремонт:
Хозяин в ясную погоду
Не прочь надеть комбинезон…
В решимости – проходят годы!
Устроился в родном аду!
Ловлю прекрасные мгновенья…
В какую ж ж… попаду
Я со своим проникновеньем?!
Котятам сразу жизнь известна,
Авто не едет никуда,
Соседу столь же интересно
Не пожинать плодов труда…
И мне – скорей простят небрежность,
Чем добросовестность письма;
Максимализм (души прилежность)
Есть ограниченность ума
И – помраченье. Почернели
На листьях ветви. Лопнул свет.
Погасла тьма. И по панели
Пронесся мусор. И – привет!
В безветрии – молчанья свист,
Вот распахнулась клетка в клетке,
И птицы вырвались, как хлыст,
Оставив пустоту на ветке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу