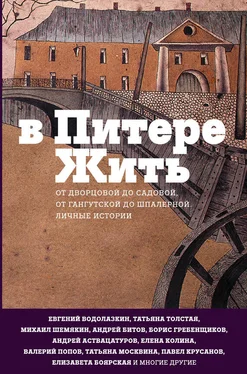К слову, здесь, на Московском проспекте (а был он в свое время и Царскосельским, и Забалканским, и Международным, и – совсем недолго – проспектом Сталина), как нигде бросается в глаза стратиграфия размежевания Петербурга с Ленинградом: от Сенной до Фонтанки – классицизм позапрошлого века, от Фонтанки до Обводного и пятнышком возле «Электросилы» – эклектика и сдержанный (именно здесь сдержанный) модерн начала века прошлого, и вдруг – гранитные цоколи, могучие фасады в гипсовых гирляндах, колоннады и огромные арки – мощный размах сталинского ампира. Нет, что ни говорите – была у нас великая эпоха.
И пусть ветку законодательной власти так здесь и не привили (в Доме Советов обосновалось научно-производственное объединение), район этот заворочался, как гром в туче, зашумел и, напитанный энергиями грандиозного замысла, зажил своей жизнью, включенной в общую сферу городского дыхания, и вместе с тем особой, отчасти замкнутой, лабораторной. Город в городе. Память о первоначальных планах сохранила топонимика – улица, на которую выходят тылы Ноевой глыбы, до сих пор называется улицей Ленсовета. А что с ней поделаешь? – нет у нее старого названия.
Наверное, это была последняя масштабная ленинградская стройка (в те же годы что-то похожее, но с меньшим размахом, возводили возле Нарвских ворот и в Автово), когда проектировщики и строители отдавали себе отчет в том, что в итоге в этих домах будут жить люди. Неспроста в эпоху передела, поздние восьмидесятые и девяностые, здешние квартиры порой обгоняли в цене хоромы золотого треугольника (Невский – Нева – Фонтанка) и Петроградки. Вне конкуренции оставался только изящный модерн Таврической улицы. И действительно – дома нового центра были монументальны и надежны, скверы зелены и широки, потолки высоки, комнаты просторны и светлы, а в кухнях зачастую даже были проведены мусоропроводы (потом их заваривали, чтобы перекрыть пути миграции тараканов). На фасадах здесь до сих пор не сыплется ни штукатурка, ни лепнина. То есть кое-где сыплется, но видно, как тяжело ей это дается.
Глядя на эту мощь сегодня, хочется улыбнуться от нахлынувшей памяти детства. Здесь, по соседству, на улице Ленсовета, я родился и вырос, здесь на Алтайской и на задах Дома Советов играл в казаки-разбойники и ножички, здесь прятался в кустах с первой сигаретой… Именно по соседству – не в надежном сталинском квадрате (так называли в моем детстве эти дома размером в квартал), а в хрущевской силикатной пятиэтажке, какие облепили новый центр, точно невзрачные флигелечки и хоздворы барскую усадьбу.
Общее место: старый Петербург – прибежище болотных чертей; теней Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белого вперемешку с тенями их персонажей; беспокойных химер Каракозова, Перовской, Железняка, Дыбенко; тающих на ветрах перемен, истонченных, с огромными глазными провалами призраков мертвых блокадников, не сдавших Ленинград и вопиющих об отмщении, ну и прочей занятной и страшной мифологии, давшей в итоге право городу называться Великим. Без этого – никак. Пока пространство не напитается яркими жизнями, жертвенными смертями, талантами и мечтами его насельников, оно не оживет, не одухотворится, останется просто камнем, перекрестком, улицей – предметом без всякой метафизики и внутреннего огня, ветшающим без грусти и умирающим раз и навсегда, как случайная чепуха, как вещь без эйдоса. И мы всегда подспудно чувствуем, в каком пространстве оказались – среди пропитанных таинственными токами стен или в пустоте мыльного пузыря, надутого не вдохновением, а необходимостью поместить куда-то на проживание технический персонал этого разрастающегося человечника , исполняющий функции по обслуживанию его заводов, фабрик, институтов, портов, магазинов и прочей сферы материальных манипуляций и невещественных услуг. Такие пузыри – новые городские районы от Купчино до Гражданки, от Ульянки до Ржевки, от Комендантского аэродрома до Веселого поселка. Жизнь там парадоксальным образом эфемерна именно потому, что держится на одной физике и голой необходимости. И никогда этим пузырям не стать иными, поскольку все живое, хоть раз почувствовавшее в сердце экзистенциальный ужас (я мал и ничтожен, а мироздание грандиозно и совершенно ко мне равнодушно, моя участь – сгинуть в холоде его равнодушия без следа), бежит оттуда, стараясь хотя бы на время, хотя бы в фантазиях приткнуться к тому, что обещает пусть не физическое бессмертие, но долговечность памяти. В Петербурге это несложно: каменной духовности, имперского многообразия и исторической памяти здесь столько, что порой кажется: исчезни с лица земли весь мир и останься только Петербург – весь мир во всем его многоцветье возможно будет восстановить из Петербурга. Вплоть до Древнего Египта (сфинксы и мумии), вплоть до Тибета (огромное количество монастырских манускриптов, хранящихся в Институте востоковедения, многие из которых до сих пор не переведены, – свидетельство тибетолога и буддолога Федора Ипполитовича Щербатского), вплоть до Эфиопии и Судана (один только Николай Гумилев привез из экспедиции по Восточной Африке, снаряженной Академией наук, богатейший этнографический материал).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу