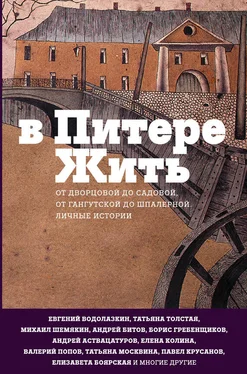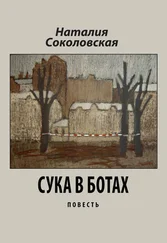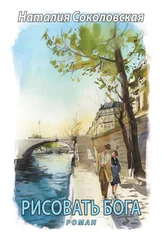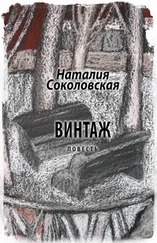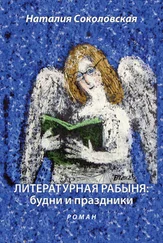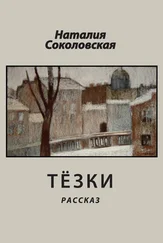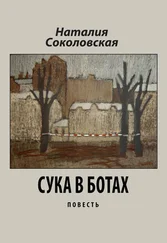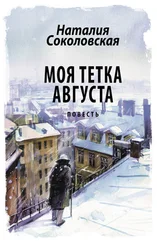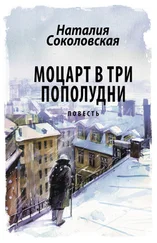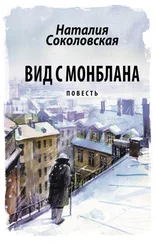Вдруг послышался сильный шум. Он нарастал и в конце концов стал невыносимым. Я не знала, что и думать. Залезать под скамейку показалось мне полумерой. Дети, кажется, не слишком испугались, даже младшая дочка. Но мне было очень не по себе. Я точно знала, что такой сильный шум – это, скорее всего, нештатная ситуация, а может, и война. Невозможно даже было сказать, откуда шумит: казалось, грохочет все.
Над нашими головами молниеносно пронеслись, взмывая вверх, четыре неправдоподобно красивых, игрушечных на вид военных самолетика. Они описали над парком мертвую петлю и унеслись в небо над Заливом. За ними мчалась другая четверка.
– Военный парад! – сказал кто-то.
И тогда я подумала, что даже если наступает конец света, хорошо уже и то, что мы сейчас вместе.
Что же касается проспекта Стачек, то его в очередной раз отремонтировали на средства города. Как всегда, ненадолго, да и на том спасибо.
9 мая 1965 года праздновали двадцатилетие Победы.
По этому случаю исполком Ленсовета принял решение дать имя безымянному «пятачку», возникшему еще сто лет назад на пересечении двух улиц – Большой и Малой Спасских – и трех проспектов – Алексеевского, Старопарголовского и Второго Муринского. Пятачок расположился в очень важном для Ленинграда месте: на пути из центра к Пискаревскому мемориальному кладбищу, куда отныне должны были возить по вновь проложенной «правительственной трассе» важных гостей в черных автомобилях. Кучка домов, испуганно жавшаяся на пятачке с сáмой революции, все-таки дождалась своего часа: она подлежала сносу. На ее месте планировалось создать круглую площадь, окруженную часовыми – выстроенными по единому проекту высокими домами.
Площадь Мужества
От прежнего пятачка решили оставить четыре дома. Маленький романтический особнячок с башенкой, который народ называл «дачей Шаляпина» (увы, Шаляпин там никогда не бывал). Круглую баню-«шайбу» (в наши дни ее уже не тронут – признана памятником конструктивизма, но тогда шайбу пощадили, я думаю, по другой причине: людям, даже живущим в музее, надо мыться). И два дома Политехнического института: общежитие для студентов-иностранцев и пятиэтажный дом с высокой трубой, заселенный в основном семьями преподавателей.
Указ о создании площади-памятника и постановление о сносе безыдейного пятачка вышли 15 мая 1965 года. А 13 июля в доме с трубой произошло важное лично для меня событие.
Я там родился
Район назывался Лесной или Лесное. Название пошло от Лесного института, впоследствии Лесотехнической академии. Этот институт – белое здание, окруженное парком, – возник здесь еще в 1811 году и обозначил южную границу будущего района. Только через сто лет появилась северная граница – Политехнический институт, тоже белое здание, окруженное парком. Мало кто знает: петербургский Политех строили как почти точную копию берлинского. Оригинал не пережил войну, наши разбомбили его в сорок пятом. Копия выжила: блокадники вспоминают, что немецкие снаряды сюда не долетали – совсем чуть-чуть. Копия, не имеющая оригинала, в философии называется обидным словом «симулякр» («притворщик»). Считается, что притворщик изображает то, чего на самом деле не существует и никогда не существовало. Мне кажется, что авторы этой теории не приняли в расчет бомбежки.
В нашем городе очень много симулякров
Между Лесотехнической академией и Политехническим институтом расположились – со временем так или иначе уходя в небытие – ленинградские НИИ: Котлотурбинный, Физико-агрономический, Постоянного Тока, Радиевый, Телевидения, а также знаменитый Физтех – Физико-технический институт имени Иоффе. Мой дед всю жизнь проработал в Политехе. Отец в момент моего рождения трудился в Институте Постоянного Тока. Я в 1982 году поступил в ЛЭТИ (электротехнический институт) на «алферовскую» кафедру. Со второго курса занятия проходили в здании Физтеха. Студентов принял сам Жорес Иванович Алферов – уже академик, но еще не Нобелевский лауреат. Помню, он советовал побольше заниматься физкультурой, особенно бéгом, поскольку для настоящего физика главное – это здоровье (а я уважительно посматривал на огромную, полную до краев окурками бронзовую пепельницу у него на столе). Все, кто тогда внимательно слушал речь академика о пользе бега, потом сбежали за границу – кроме меня, физиком так и не ставшего.
«По данным на 1982 год, в Ленинградском научном центре работают свыше 23 тысяч человек, в том числе 25 академиков, 57 членов-корреспондентов, свыше 900 докторов и около 3,5 тыс. кандидатов наук».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу