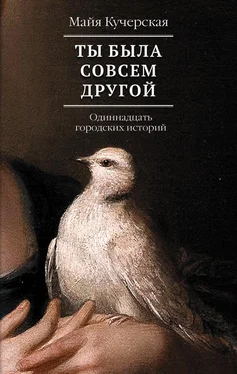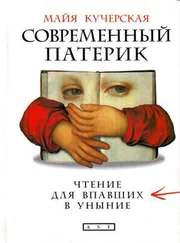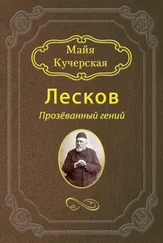Тут меня как ударило: правда. Всё правда! Мать-то Гены, Ирина Васильевна, Царство Небесное, тоже не сразу свихнулась, сначала трех мужей бросила, в том числе Гениного отца, и про бабку свою он всегда говорил, суровая была женщина, зимой снега не допросишься, с дедом жила, как кошка с собакой.
Вот ведь. Не полюблю Гену, Ванечка будет мучиться всю жизнь.
Только открыла я рот, чтоб спросить, да как же, как мне Гену-то полюбить, не любила ведь его толком никогда, и замуж пошла за него, чтобы в дурку опять не загреметь – он меня очень поддерживал!
Но прозорливая меня остановила, говорить не позволила. Помолчала, посидела с закрытыми глазами, потом снова глянула: «Другой, другой на сердце у вас. Сколько лет уже. Надо эту дрянь …» – и рукой так показала, как выбросить из сердца дрянь. Будто гадость какую – раз и бросила за левое плечо, и поморщилась, как от скверного запаха. «Да ведь я… и Гена …», – но она уже прочь меня выпроваживает.
Ехала я в электричке и всё думала, как же мне полюбить Гену. И ведь хороший! Работящий, заботливый, слова дурного не слышала от него. Бывает, даже ужин приготовит, и Ванечку, конечно, любит, хотя и по-своему, не на словах. Он вообще не очень-то на слова, молчит больше. Зато если скажет, так скажет. Давно еще, когда женихался, спросила его: «Зачем я тебе? Что ты нашел во мне! В психованной». А он: «Ты – моя женщина». Всё.
Да разве он-то – мой, мой мужчина? Но получается – да?
Думаю дальше: так, сказано ж было – другой на сердце, надо выбросить. Но кто? Тренера я почти забыла, только вот дождик да глаза небесные его остались.
Стала пытаться, прям в электричке, этот дождь выжечь из памяти, а как? Да вот так: будто не было! Не было ничего этого, ни дождя, ни рек по колено мутных, ледяных, прям у метро Текстильщики, и не нес меня никто, не прижимал крепко. Но как не нес, когда нес? Только вспомнила, опять сердце забилось, и мысли вернулись прежние: да я ж любила его! и не отвоевала, не догнала! вот кто мой мужчина, никаких сомнений.
И тут как ворота передо мной распахнулись. Поняла я, нужно мне его снова увидеть. Заново с ним встретиться и всё наконец понять. Семнадцать лет спустя! Если надо, выкинуть, как прозорливая повелела, через левое плечо, а нет, не получится, значит, судьба. «Ты моя женщина, я твой мужчина», – как пели «Наутилусы» во времена нашей молодости.
При нынешних-то возможностях найти человека – пустяки, фамилия у него была редкой, хотя звали его Сергеем, даже отчество я его вспомнила, и нашла очень быстро в «Одноклассниках», поглядела, почитала – похоже, и правда побывал он в Америке, но как будто недолго, тогда же и вернулся. Фотографии у него были сплошь старые, только совсем молодого его, почти каким я его помнила, загорелый такой на фоне океана, в футболке, очках темных – американские, видно, еще, недавних ни одной. И объявление прямо там же, на странице его висело, что дает тренировки частным образом. Зайчик ты мой, неужели так ничему больше и не научился в жизни? Написала я ему письмо, не от своего, конечно же, имени, что ищу для сына-подростка тренера. Он ответил только через неделю, но очень вежливо и велел приходить с сыном прямо в бассейн. А надо сказать, что с тех пор, как я к прозорливой съездила, Ванечке стало получше. Может, увидел, что ничто ему дома не угрожает, поуспокоился, даже в школу снова начал ходить. Я уже и дышать на него боялась, тем более, думаю, надо дело довести до конца.
Поехала я в бассейн. В бассейне «Пионер» он, оказывается, работал, возле универмага «Москва», теперь уже бывшего, кто из наших краев – знает это место. Подошла к дежурной у стойки, сказала, что нужен такой-то. Вызвали его.
Выходит. В темно-синем тренировочном костюме, в кроссовках. Неузнаваемый. Раздался! – и в плечах, и живот выпер, и красный весь какой-то цвет лица, и лысый наполовину. Где ж, Сережа, твои пышные волосы? И будто ниже стал ростом, совсем как высокий уже не смотрится. Меня, конечно, не узнает.
– На тренировку?
– Да, – говорю.
– Мальчик ваш в раздевалке уже?
– Да нет, я пока сама хотела выяснить у вас кое– что, без него пришла.
Он глаза поднимает, недовольно так, глядит на меня… ба!
Глаза-то. Глаз нету! Вместо того, что было, – блёклые плошечки. Как под целлофаном застиранным, кто советское время пережил, помнит, стирали тогда пакетики, сушили – вот этим пакетиком как будто укрытые – бледно-серые, угасшие. Ни твердости никакой, ни ясности. Ни прямоты, чтобы в душу прям!
Я рот раскрыла, говорить не могу, стою столбиком.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу