Шел в кают-компанию я неохотно: не знал, как мне теперь смотреть на оксфордского профессора, на лысого актера, на предателя Якова. И встреча с француженкой меня не воодушевляла: щека до сих пор горела. Требовалось действовать, разоблачить заговорщиков, воззвать к справедливости – времени оставалось мало, но вот как раз действовать мне не хотелось. Ночные бдения с женой свели решимость на нет: уж если жене я ничего не могу объяснить, то как рассказать малознакомым людям о том, что наш корабль скоро взорвется. Невозможно такое сказать – не поверят. Однако пошел. Говорить правду надо, даже если тебя не слушают – так меня отец учил.
Вошел в машинное отделение – и ахнул. Машина исчезла.
Когда я пишу слова «машина исчезла», осознать дикость случившегося невозможно. Понимаете, машина, приводящая в движение корабль, – неважно, работающая машина или сломанная, – это огромный агрегат весом в тонну, это гигантский стальной комод, это сооружение, в котором тысячи деталей привинчены друг к другу, приварены и закреплены стальными скобами. Вынести эту штуковину из помещения корабля наружу – задача, равная тому, чтобы вынести Кремль из Москвы или передвинуть пирамиду Хеопса. Машину и от пола-то оторвать немыслимо, ее невозможно приподнять десятку матросов. Как ее вынести с корабля? И кому, скажите, и зачем, и на кой ляд может понадобиться неработающая машина?
Однако машины в помещении не было.
В стальном полу зияла дыра – машину отодрали от стального листа, коим был покрыт пол, причем местами стальной лист был покорежен и порван, словно бумага, – будто рука великана вырвала машину из пола.
Матросы «Азарта» стояли вокруг пустого места, завороженно взирали на зияющее пространство – так стоят погорельцы возле остова дома. Из «Принца Савойского» вырвали сердце, теперь эта посудина уже не была кораблем.
Да, вы скажете, что машина и прежде не работала. Верно. Но она могла работать! Машина обещала работать! Машину можно было починить, механик вот-вот должен был появиться! Мы надеялись, у нас были планы, мы собирались дать нашему кораблю новую жизнь! Так ведь и человек с нездоровым сердцем надеется на лечение и врачей – но вырвите ему сердце, и он умрет. Мы могли отправиться на корабле «Азарт» вокруг света, мы могли на худой конец ходить по голландским каналам и рекам, мы могли плыть! И вот теперь – не можем. И даже мечтать уже не можем.
«Принц Савойский», он же «Азарт», эта ржавая посудина с ободранной обшивкой, разобранной палубой и пробоиной в борту, вдруг сделался невесомым, как будто центр тяжести у посудины был утрачен. Я почувствовал, как легкая волна, лениво бившая в причал, треплет судно и швыряет его из стороны в сторону – без машины корабль уже ничего не весил, превратился в пустую консервную банку. Йохан, музыкант-авангардист, который колотит палками по консервным банкам, теперь может играть на нашем корабле – только на это «Азарт» и годится.
Я входил в кают-компанию с намерением разоблачать, рассказать о порохе, о снарядах, о заговоре – но то, что стряслось, заставило забыть про порох и торпеды. Взрывать было уже нечего: корабля просто не стало. И это чувствовал любой – взгляды матросов потухли, в кают-компании было тихо.
Ни Августа, ни немецких рыбаков я в кают-компании не увидел. Матросы сказали, что, когда Август увидел пустую каюту, он оцепенел; долго стоял, схватившись за голову, а потом внезапно сошел на берег и взял с собой немцев. Ничего не сказал, ничего объяснять не стал, просто ушел вдаль по причалу. Кричали ему вслед – капитан не ответил.
Случившееся обсуждали уже без него. Оксфордский профессор Адриан и негоциант Яков немедленно выяснили истину. О, то были дотошные люди, и к тому же у них были виды на корабль, они уже глядели на «Азарт» как на свою собственность, воровства на судне допустить не могли. Что там ГБ или инквизиция, им до Якова и Адриана далеко! Эти ребята нашли виноватого мгновенно, быстрее любого следователя или монаха-доминиканца. Адриан Грегори и Яков обступили злосчастного ловчилу Микеле с двух сторон: англичанин цепкой рукой держал за плечо растерянного Микеле, а Яков своими узловатыми пальцами крутил итальянцу ухо. Микеле закатывал глаза, терпел боль молча, но слезы крупными голубыми каплями набухали в больших карих глазах. Яков выворачивал ухо Микеле с холодной жестокостью, ногтями раздирал кожу и крутил, крутил.
Ухо у Микеле было уже лилового цвета, раздулось вдвое против объемов, предусмотренных природой, а сам итальянец сделался пунцовым от страданий.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






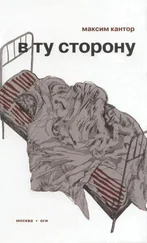


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

