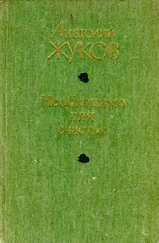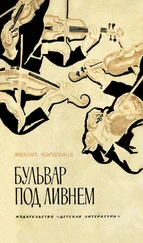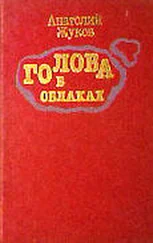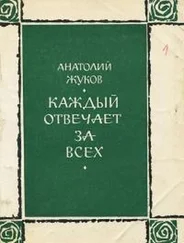Помню, как-то на художественном совете я высказался против одного главного режиссера, который довел театр до уровня самодеятельности дома культуры. В репертуаре оставался только один вечерний спектакль для взрослых. Остальное — сказки для детей. Опустились, можно сказать, до последнего круга. И высказался жестко, круто, без всяких извинений: «Вы разложили театр, разленили его, разучили серьезно работать. Играем только зайчиков и луковичек и еще задние ноги коня. Зритель перестал относиться к театру, как к настоящему, живому. И зазвать его к нам стало большой проблемой. Вам нужно подать заявление и уйти с должности главного режиссера. Срочно подать, пока потолок не рухнул нам на головы и не раздушил всех окончательно, как жаб, и т.д.».
После моей речи настала гробовая тишина, и никто из моих коллег (а там были и Ветров, и Коньков, и Угорчик) не поддержал меня, только стыдливо опустили головы.
А все сказанное было чистой правдой. Горькой, болючей правдой. И не однажды за кулисами в гримерке ее говорили те же самые Коньков, Ветров, Угорчик. И знаю, что от сердца говорили, о самом наболевшем, о самом мучительном. Но там была другая диспозиция. Другая линия защиты, другая атака. Словно в бункере — никакая артиллерия не достанет. И если даже кто-то донесет в дирекцию, мол, недовольны, критикуют, ругают (а эта сфера в театре имеет богатую почву и дает пышное цветение), то можно сказать, что все это слухи, клевета, интриги, зависть бездарей.
А на художественном совете — было в лоб, грудь в грудь. Никакого спасительного бункера, где можно все списать на клевету и интриги. Здесь нужно отвечать за свои слова, держать удар. Но головы были опущены. Царило безмолвие.
Вот потому и цену их похвалы моего поступка отлично знал. А взорвался я, потому что был загнан в угол. Спасался. Нет кочки, на которую можно было опереться, чтобы вскочить, набрать разгон — и вперед к своему открытию, к неопределенности, к удивлению самого себя. Иначе все напрасно, все зря. Иначе ты просто чтец, который навязывает свою интонацию авторского текста зрителям, которые и сами могли еще с большим интересом прочитать пьесу дома, подключить свои фантазию, представляя героев по-своему. Мне необходимо оторваться от простого чтеца, изгнать его из себя и стать актером, вознестись к его космической высоте, где Солнце, Луна, звезды становятся друзьями, осветляя чистым, трепетным светом путь истины. Сознательно или несознательно, я все бросил на весы этого безумного результата.
Амур нашел рюмки, подал одну мне.
— Нет, спасибо, — отмахнулся я. — Мне еще на сцену выходить, да и после репетиции запись на радио. Язык будет заплетаться.
— Да брось ты! Сцена — ерунда, не привыкать. А в эфире даже лучше будешь говорить, чем трезвый, — предложил Амур.
— Честно, не выпендриваюсь. Сцену осилю, но на радио десять страниц текста — их выговаривать надо. Спрятаться не за кого. Один на один с микрофоном, — отнекивался я.
— Что ж, наше дело предложить, — сразу согласился Амур и обратился к Салевичу:
— Будешь?
— Ты ж знаешь, что водку я не пью, пиво с удовольствием, — сказал Салевич.
— Это ты будешь сам себе покупать. Здесь не ресторан, Михайлович! — подал рюмку Ветрову.
— Будь что будет. Актеры тоже люди. За нас! — сказал Ветров и выпил.
У меня после репетиции действительно запись на радио и десять страниц текста. Но, честно говоря, это была не основная причина моего отказа. Я наконец-то начал чувствовать внутреннее состояние своего героя. Но еще пока слабо, неуверенно, и я всеми чувствами старался втянуть его в себя, запомнить. Это нужно было делать сейчас: в эти минуты, секунды, в эти мгновения. Потом будет поздно. Как нежданный звук, который резко возник — и его уже нет. Не остался в памяти, не запомнился. Я ходил, я что-то говорил, у кого-то что-то спрашивал и кому- то отвечал. Я смеялся и шутил, но во всем этом был уже не я. Через секунду я не помнил то, что только что говорил, не слышал, что делал, что происходило вокруг меня. Я исчез как зернышко в почве, которое начинало давать жизнь новому колосу. В почве моей души медленно прорастал тот, кто так долго не хотел появляться. Я боялся растерять это чувство или, не дай Бог, совсем утратить.
Последний час репетиции прошел спокойно: никакой ругани, никакой грубости по отношению друг к другу. Мои чувства меня не обманули. Сценическое пространство, по которому я двигался — а это был уже совсем не я — и где звучало мое слово и дыхание согревало близких, понемногу представлялось мне другим миром; деревянный пол под моими ногами превратился в песок, траву, камень; кулисы — в нетронутую глухомань пущ и боров; темный пыльный задник светился звездами далекой старины. А главное — чувство. О, это хмельное, чуть ли не первой влюбленности, святое чувство не самого себя!
Читать дальше