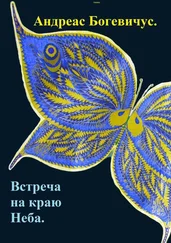Поздней осенью Вера родила девочку и ее не стало видно у дома: нянчилась с дочерью, гуляла редко, потому что погода стояла дождливая и холодная. Бирюк работал, ходил с двумя большими сумками в магазин, в молочную кухню за кефиром дочери — сосредоточенный, молчаливый. И если он раньше не замечал людей, то что было ожидать теперь, когда у него все так хорошо устроилось: жена, дочь — одним словом, семья. И казалось, ничего уже не может произойти в его жизни и будет он жить, как живет большинство людей: тихо, скучно и неприметно. Однако в один из летних дней произошло событие, снова всполошившее соседей и заставившее их по-другому взглянуть на Бирюка.
В этот день Вера не на шутку разругалась с мужем и решила от него уйти. Она связала в простыню детские пеленки, свои платья и, взяв на руки дочь, спустилась вниз. Бирюк, очевидно не ожидавший от нее такой решительности, догнал ее уже на дорожке. Вера, сгибаясь от тяжести, а больше от неудобства, тащила узел чуть что не по асфальту. Шел летний, но все же какой-то нудный дождь, растекался каплями по лицу и смывал слезы. На асфальте стояли лужи…
Догнав жену, Бирюк преградил ей дорогу и принялся что-то объяснять. Он хватался то за нее, то за узел, то бил себя в грудь и растопыривал руки, будто собирался ловить Веру. Она же слушала его, отрицательно качала головой и пыталась обойти. Бирюк не пускал, и она сквозь слезы повторяла одно и то же:
— Не могу больше… Сил моих нет… Отпусти меня домой!..
И продвигалась по дорожке все дальше.
Бирюк, похоже, растерялся, уже ничего не говорил, а только двигал руками, словно в каком-то странном танце, потом неожиданно упал перед Верой на колени, угодив в самую лужу, обхватил ноги жены и застонал, как от страшной боли.
— Все равно уйду! — говорила Вера. — Нет больше сил терпеть… Отпусти!..
Столько отчаянья слышалось в ее голосе, столько боли и страдания, что Бирюк понял — она действительно уйдет. И тогда он беспомощно огляделся вокруг, на двери и окна дома, и закричал во весь голос:
— Люди добрые, помогите!..
Он закричал так, будто его смертельно ранили и жизнь должна была вот-вот уйти от него; лицо его побелело, исказилось страшной гримасой отчаянья. Верно, в эту секунду он вспомнил всю свою жизнь, одиночество и увидел — что ожидало его впереди.
Вера испугалась крика, притихла и со страхом смотрела на мужа, который стоял перед нею на коленях и с какой-то потерянностью глядел снизу вверх, то ли на нее, то ли куда-то в небо. Голова его была сильно запрокинута, и в этом увиделось ей что-то жуткое, она застыла на мгновение, открыла рот, но не плакала, а затем силы покинули ее и она опустилась на асфальт. И тут уж разрыдалась так, что ее не скоро успокоили. Сквозь слезы и всхлипыванья она вычитывала мужу свои обиды, которые невозможно было разобрать и в которых то и дело слышалось:
— Бирюк ты разнесчастный!..
Вышли соседи, отвели их на скамейку и, как могли, утешили…
Бирюк не скоро отошел, тупо глядел на людей и, казалось, ничего не понимал, и когда Вера гладила его по мокрой голове, он как-то дурашливо улыбался.
Вера больше никогда не уходила от мужа, растила дочь, заботилась домашними делами и день ото дня становилась все более замкнутой. Все реже слышался ее смех, хотя с людьми она оставалась, как и раньше, приветливой. Она здоровалась, но мало с кем говорила, и улыбка ее казалась стеснительной. Что-то произошло в тот день с нею, и лицо ее как-то быстро состарилось, поблекло. Она стала выглядеть старше своих лет, и в глазах ее всегда была печаль, будто бы только теперь она поняла что-то важное, что уже нельзя исправить.
Что ж до Бирюка, то он с неделю после того дождливого дня не выходил из дому — болел, а после — работал, улетал и возвращался, как и прежде, ни с кем не здороваясь и не разговаривая. Внешне он не изменился, казался все таким же здоровым и крепким и выглядел как раз на свои сорок лет. Правда, теперь зимой он надевал шапку.
Через несколько лет Бирюк с женой и дочерью переехали в другой район, и никто не знал — куда, потому что они ни с кем не попрощались.
Ноябрьским вечером заехал к Трехову штурман Лихарев — веселый, говорливый мужчина лет сорока.
В отличие от низкорослого, бледного и худого Трехова он был высоким, широкоплечим, округлое лицо его с маленькими, близко посаженными глазами было всегда смеющееся и загорелое. Последнее ничуть не удивительно, так как Лихарев жил на Черноморском побережье, где почти круглый год солнечно и тепло. Карие глаза Лихарева присматривались ко всему внимательно и цепко и напоминали две пуговицы, пришитые крепко и глубоко. Когда Лихарев смеялся густым коротким смехом, обнажая длинные, белые до синевы зубы, что-то хищное появлялось в его лице, неуловимое, как тень, и улыбка становилась похожа на звериный оскал.
Читать дальше
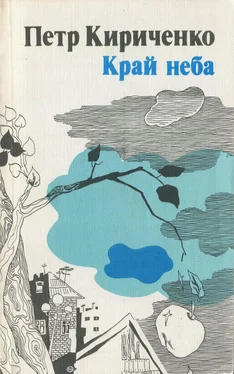
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




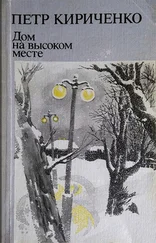
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)