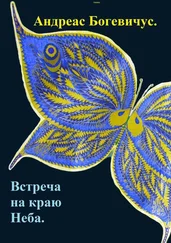— Отчего же так? — спросил он вслух и неожиданно рассмеялся во весь голос, словно бы только теперь понял то, что следовало понять давно.
Сермяков уставился на него с немым вопросом, штурман выглянул из своей кабины и смотрел то на него, то на командира. И вид у него был испуганный. Игореха ничего этого не замечал, он тут же затих и так же, как прежде, бесцельно смотрел вперед. Вместо пассажира он теперь видел Якова; казалось, тот летел теперь с ними. Выглядел Яков все таким же сирым, каким прикидывался всю жизнь, босые ноги его были грязно-желтыми, но властно, так же, как прежде, тыкал он Игореху искалеченным пальцем.
— Я говорил, не ведаем…
— Яков, — сказал ему Игореха. — Ты давно мертвый…
Тот ехидно хихикнул и пропал.
Сермяков, решившись, что-то спросил, но Игореха не ответил. Он боялся той легкости, что пришла вдруг к нему, стискивал штурвал руками, вроде бы понимая, что теперь это единственное и прочное, что может придать ему силы.
Заход на посадку он выполнил отлично, выдержал и скорость, и высоту. Колеса коснулись бетона строго у посадочных знаков. Приземление вышло мягким, едва ощутимым. Он плавно затормозил самолет и повернул его на рулежную дорожку. Сермяков, словно бы догадавшись о чем-то, внимательно следил. Ему хотелось похвалить Игореху, но он промолчал.
Они зарулили на стоянку, выключили двигатели.
И как только вышли из самолета, сразу же увидели под крылом инспектора, который с притворным вниманием присматривался к колесам. Сермяков тихо чертыхнулся: он заметил неубранные закрылки. «Как же это я?!» — сказал он с сожалением, потрогал зачем-то кокарду на фуражке и твердым шагом направился к инспектору.
— Когда должны быть убраны закрылки? — спросил тот сразу, даже не ответив на приветствие. — Я спрашиваю!
Голос у него был радостный и звонкий, как у образцового пионера, а сам он гляделся важно, неприступно, и Сермяков, совсем некстати вспомнивший дежурную по посадке, подумал о том, что инспектор начинает с простого пилота, но после забывает об этом и ведет себя так, будто явился не откуда-нибудь, а прямо с небес. «И летать-то, зараза, не умеет, — мелькнуло у него в голове, — а научит любого!»
— Виноват! — сказал Сермяков, глядя инспектору прямо в глаза. — Виноват! — повторил он, забыв, казалось, все другие слова.
— Кроме того, — инспектор повернулся к Игорехе, который стоял боком к нему и ничего не слышал. — У него рубашка в полоску, а у нас соблюдение формы…
Сермяков взглянул на рубашку Игорехи, но никакой полоски не увидел. Неизвестно, как бы он ответил инспектору, но тут Игореха без единого слова повернулся и пошел прочь.
— Стой! — крикнул инспектор и кинулся вслед.
— Вот дурак, — определил Сермяков инспектора и тоскливо подумал о том, что придется держать отчет перед командиром отряда.
А Игореха заболел, что-то надломилось в нем, и летать он больше не смог. Да и забыл он полеты, Сермякова забыл и речку Свапу. Жил себе тихо, только изредка, заслышав гул самолетный, тревожился и глядел в небо. Думал, что гремят грозы. Но кончилась осень, шли дожди, гроз не было и в помине. Игореха ничего этого не понимал, и пришлось насильно надеть ему на голову шапку, когда подступили холода.
Сермяков, узнав о болезни Игорехи, напился до беспамятства, кричал сдуру, что летать больше не будет. Но после отошел, работал как прежде, часто вспоминал Игореху, качал головой и приговаривал: «Тяжелый случай!» И сиротливо оглядывался вокруг.
Ему было лет сорок, но выглядел он старше.
Высокий, крепкий, несколько даже грузный Бирюк считался в доме человеком замкнутым, молчаливым и до удивления неприветливым. Возвращаясь с полетов, он шел по дорожке, ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, закрывался в своей однокомнатной квартире и выходил из нее только для того, чтобы вновь отправиться на работу.
Глядя на него, думалось, что, возможно, когда-то давно его крепко обидели, и поэтому на лице его застыло выражение угрюмости и недоброго отношения к роду человеческому, или же он пережил какое горе, ломавшее и мявшее его и в конце концов отступившее, но оставившее на нем свои следы. Казалось, следы эти были даже на лице: нос небольшой, но сплющенный, губы толстые и немного вывернутые, глаза темные, с красными прожилками. Можно было предположить, что прошлое свое, какое бы оно ни было, Бирюк помнил крепко, и теперь, что бы ни делал и куда бы ни смотрел, видел только это прошлое. По его скудной жизни можно было понять, что ни мир, в котором жили разные, возможно более удачливые люди, ни природа, представавшая перед ним все теми же тополями вдоль дорожки, его не интересовали.
Читать дальше
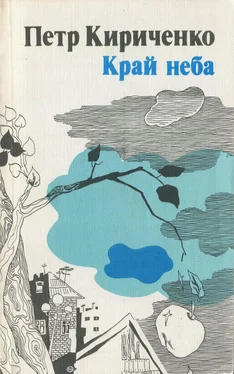
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




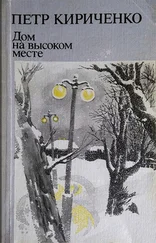
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)