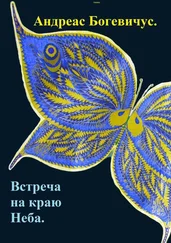Теперь Ступишин сам был командиром, и они с Игнатьевым вместе не летали, но встречались часто. А летом, бывало, ездили в деревню, где у Ступишина куплен был старый брошенный дом. Чаще там жили их семьи, а сами они редко приезжали, вырываясь на день-два, потому что летом как раз и начиналась основная работа и времени не хватало.
— Давай, Георгий, выпьем, и я расскажу тебе об одной поездке, — сказал Игнатьев, разлив вино по стаканам, помолчал и добавил: — Я, собственно, и заговорил уже об этом…
Они выпили вино, поглядели друг на друга, говоря без слов, что такой «квас» добрые люди пьют в жару. Игнатьев скривился, а Ступишин покрутил в воздухе рукой, будто держал не стакан, а пиалу.
— Лучшее вино… — начал он, но Игнатьев перебил:
— Знаю, Георгий, знаю!.. Но чего нет, того нет…
Ступишин не проронил ни слова, встал и, сходив в прихожую, где оставлял портфель, принес коньяк.
— Вот, — равнодушно сказал он, поставив бутылку на стол. — Теперь рассказывай, что хочешь и сколько хочешь…
Игнатьев открыл холодильник, достал нарезанный лимон и проворчал так, будто и не к товарищу обращался, а размышлял вслух:
— Крепкие люди пошли, вечер могут молчать. — Взглянул на Ступишина так, словно бы сердился, и добавил: — Что дальше будет…
— Никто не знает, — невозмутимо ответил тот, улыбнулся едва заметно и после, когда, казалось, уже и забыл об этом, вдруг сказал: — При жене не посмел, не знал, что она так круто перековалась.
— Ну, Георгий, любишь ты ее, — посмеялся Игнатьев.
— Что да, то да, — в шутку согласился Ступишин.
Друзья посмеялись, выпили, поговорили, как водится, что коньяк теперь стал совсем не тот: раньше он был крепче и мягче, и Ступишин, любивший всегда подчеркнуть, что раньше и летать было проще, и материю на костюм выдавали подобротнее, тем не менее сказал:
— Раньше и глина была лучше! — как бы давая понять, что пить надо то, что есть, и не вспоминать о прошлом. А слова эти о глине говорил все тот же бортмеханик, когда, намекая на дочерей, поддевали его разговорами о прошлых временах: люди, мол, были раньше совсем другие, покрепче, что ли…
— Это точно! — проговорил Игнатьев, поглядев в окно. — Смотрю я вон на ту звезду и вспоминаю, как стоял на ночной дороге и глядел в небо. Нет, ты только представь себе, Георгий, отлетал я тогда тысяч восемь, нагляделся и на небо, и на облака — чему, казалось бы, удивляться, а когда попал в места глухие, стал смотреть не на что другое, как на небо!
Игнатьев высказал все это оживленно, взволнованно даже и, вспоминая, смотрел на Ступишина с удивлением, будто ему самому не верилось, что такое могло быть. Ступишин мало что понял, тем более ничего странного в таком поступке не увидел и, проявляя осторожность, сказал короткое, но задумчивое: «Гм!..»
— Вот ты говоришь — посадка, — продолжал Игнатьев. — Конечно, посадка! Движок горит, темнотища вокруг, и мысль только одна — к земле скорее бы! к земле… Но это случай, понимаешь!.. Ситуация такая, и тут все ясно. А вот то, что я забрался в глухомань и смотрел на небо — это сложнее. Мы же летаем, — сказал он почти шепотом, — знаем, что небо для нас всегда… привычное, что ли… Как бы точнее выразиться?.. Небо это нас держит, привыкли мы, иной раз пролетишь, спроси — не скажешь, какое оно было. Позабудешь. Да и тысячи людей живут и не интересуются небом: на земле хлопот хватает. Но для нас… Словом, небо есть небо. А тогда оно мне показалось таким, будто видел я его впервые. Черное-черное, звезды огромные, вспомнил навигационные, но, оказалось, многие забыл. Отчего-то «Ли-два» вспомнился…
— Золотой был самолет, — вставил Ступишин, глядевший на товарища с явным удивлением и, видно, не понимавший его. — Помню, шарахнуло меня это небо…
— Да нет! — остановил его Игнатьев, даже кулаком пристукнул по столу и скривил губы, словно от боли. — Не то! Это случай, а вот когда вокруг все спокойно, когда ничего еще не произошло, а тебе уже как-то не так. Смотришь в небо, далеко смотришь… Понимаешь?! Эх! — сказал он в сердцах. — Высказать не могу!..
— Да понятно! — вскрикнул тихо Ступишин, переживая за товарища. — Смотришь, думаешь о чем-то, а потом забываешь. Не так?..
— Может быть, — согласился Игнатьев, голос у него стал спокойнее. — Может быть, — повторил он и продолжал: — И состояние у меня было тогда какое-то непонятное, легкость какая-то… Правда, попал я в те места впервые, да и работал перед этим дней десять без выходных, потому что экипаж мой отправлялся на учебу и надо было подналетать…
Читать дальше
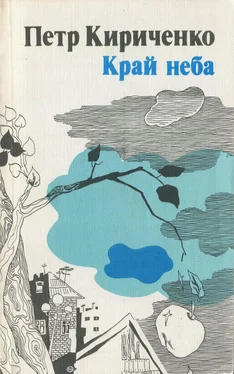
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




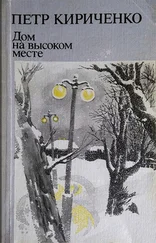
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)