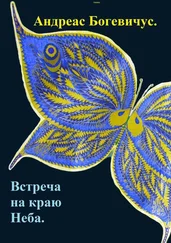Сегодня они летали в Домодедово. Пришли туда по расписанию, а вылететь домой не могли; сначала не было заправки, затем — пассажиров, а после, когда их привели и посадили в самолет, пропал куда-то багаж. В салоне была духота, и пассажиров высадили… Мазин трижды подписывал задание на вылет, и трижды уходил из самолета к диспетчерам: надо было подписывать снова. Наконец, не выдержав, он пошел к начальнику службы перевозок. Начальник, к которому Мазин, рассердившись на все безобразия, не вошел, а ворвался, поглядел на него затравленно и устало: Мазин был не первым, к тому же вид имел решительный. Ростом его бог не обидел, плечи широкие.
Сразу же от порога Мазин заговорил о беспорядках, о том, что несколько часов они не могут вылететь. Говорил он сбивчиво и бестолково, но начальник его понял, потому что все это прекрасно знал… Экипаж прождал уже часов семь, и если соблюдать все правила, то и вылетать не мог: требовался отдых.
— Вы что же, не знали, что первое сентября на носу? — горячился Мазин, глядя на начальника. — Или как это называется?..
— Знали, — коротко и тихо, хриплым голосом ответил тот. — Всего ведь не предусмотришь. — Он помолчал, будто собираясь с силами, а затем все так же тихо продолжал: — Керосин урезали, после — добавили. Рейсы сократили, а через три дня ввели дополнительные…
Он говорил о том, что нет продуманности в работе: одно указание противоречит другому; аэропорт работает на пределе, и никто не может ничего поделать. Говорил он так, будто жаловался Мазину или рассуждал вслух.
— Мы привыкли, командир, друг на друга кивать, а надо, чтобы каждый посмотрел на себя и спросил: я-то сам правильно сделал? Такого у нас нет, — закончил он и посмотрел на Мазина так, словно бы ждал ответа.
Мазину стало жаль этого усталого человека, который в отличие от другого начальства не кричал и не грозил отстранить от полетов; он потоптался на месте, не зная, что же делать, и сказал:
— Все это так, но если мы через час не вылетим — надо идти в гостиницу.
— Через час не получится, — спокойно ответил начальник и пояснил: — Сейчас будет заступать новая смена, и пока они раскачаются… Но часа через два взлетите.
— Подождем два часа, — согласился Мазин, понимая, что никакой начальник, будь он хоть семи пядей во лбу, не справится, если раньше не продумали; простился и вышел.
В кабине был полумрак, ровным светом горели контрольные лампочки, тускло отсвечивали приборы; все стрелки замерли. И Мазину, глядевшему то в темноту, то на приборы, вдруг увиделось что-то страшное в этой кажущейся неподвижности и подумалось, что молчат они от самого взлета. Даже механик не ворчал, как обычно. Штурман, сидевший между пилотами, один раз взглянул на звезды и дважды на командира, даже рукой повел, напоминая, что пора включить автопилот и отдать управление ему. Мазин понял, утвердительно кивнул, но продолжал пилотировать вручную; и только набрав одиннадцать тысяч, нажал кнопки включения и покачал штурвалом, пробуя захват рулевых машинок.
— Так! — бодро сказал штурман, сразу же оживившись, и «заиграл» на клавишах пульта управления, выставляя курс поточнее.
— Что приуныли? — спросил Мазин, оглядываясь на бортмеханика. — Все же летим.
Ему никто не ответил, а второй пилот только повернул голову и поглядел на него, будто хотел спросить: «О чем тут говорить!» И после нехотя сказал словами из песни:
— Ночной полет — не время для полета…
— Летим, — не сразу подтвердил штурман. — А то как же!
— Так-то оно так, — не утерпел и механик. — Но десять часов проторчали, и времени этого нам никто не вернет… Пока доберемся — считай, сутки на ногах…
— Ты же видел, сколько людей в порту, — недовольным голосом сказал второй. — На асфальте живут.
— Да вот и оно, — ответил механик и снова заговорил о жене, об инфаркте, который цапнет, когда его не ждешь.
— Цапнет, это уж наверняка, — поддразнивал механика штурман. — Вот кого только — неизвестно.
— Будем надеяться на лучшее, — проговорил Мазин и, повернувшись ко второму пилоту, добавил: — Ты бы закемарил?..
И второй, будто только ждавший этих слов, откинул спинку кресла, улегся поудобнее и закрыл глаза. На этом все разговоры кончились: штурман докладывал диспетчеру о пролете контрольных точек, разворачивал самолет; механик, отрегулировав подсвет стола, взялся заполнять формуляры, а Мазин просто сидел и, только изредка поглядывая на курс и высоту, смотрел вперед. Думал о том, что каждый год повторяется одно и то же: отпускники везут детей домой перед школой, и в аэропорту вырастает табор; люди терпят неудобства, ждут, надеются. Они счастливы, если попадают в самолет, и плачут, если вылететь не удается. Мазин столько раз видел подобное, но привыкнуть не мог. «Неужели другие не понимают, что должно быть иначе, — думал он. — А если понимают, то отчего же не стараются сделать лучше?..» В эту грустную минуту ему вдруг подумалось о равнодушии людей, о том, что живут они беспечно, не заботясь ни о себе, ни друг о друге, и даже на будущее махнули рукой, словно бы надеются, что кто-то чужой побеспокоится о них. В салоне его самолета было сто сорок человек, все они, измучившись ожиданием, наверняка спали, и Мазину пришло в голову — что, если бы выйти вот сейчас к ним и спросить: «Теперь вы все видели, все знаете, и что же будете делать?..» Интересно, что бы они ответили? А возможно, и не поняли бы, о чем он спросил? Мазин посмеялся над своими мыслями, но серьезно подумал, что не после этого рейса, так после чего-то другого люди все же что-то поймут, потому что не должно быть так неустроенно в жизни, да и понять рано или поздно придется.
Читать дальше
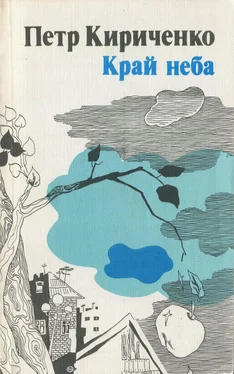
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




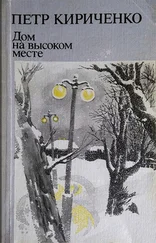
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)