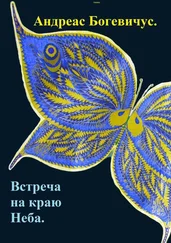Представлял, как пойдет к речке, установит этюдник и начнет писать. Радостно становилось на душе, и, спохватываясь, Федор смеялся над собой, вспоминал, как думал о другой какой-то работе. Он понимал, что ничем другим заниматься никогда не будет, но подобные мысли придут к нему еще не раз. Как всякий художник, он мог видеть мир то неизмеримо огромным, то маленьким, сведенным до размеров холста; сомнение грызло его и не давало спокойно жить, и, как всякий художник, он временами ощущал страшную пустоту, когда казалось, что это уже навсегда, что ничего больше не напишешь, и забывалось известное и такое понятное в другое время — что пустота эта и нужна для того, чтобы освободиться от чего-то пройденного и дать возможность зародиться чему-то новому. Подумать — насколько просто и понятно, а вот же забывалось, как забывалось и то, что что-то подобное уже было, и он тогда пережил…
Сколько раз Федор брался за карандаш, зная, впрочем, что ничего путного из этого не выйдет. «Пусть хотя бы глаза не отвыкают, — думал он. — Не то совсем ослабнуть можно». И работал, сколько мог, сидел в мастерской, пока не начинало темнеть, смотрел на испорченные листы, оглядывался на два этюда, написанные ранней осенью на берегу речки. Вода на них темно-синяя, все еще бурлящая, живая, а трава уже пожухла, сжелтела. На одном этюде была выписана занесенная течением сухая ветка, она застряла на мели, и к ней пристали желтые листья, речной сор. Один листок совсем уж покраснел и поэтому выделялся, и было видно, что вода в этом месте течет тихо, спокойно. Светлела мель, и угадывалось приволье невысокого берега, чистота речки и покой. В который раз Федор вспоминал, что написал этюды как-то на удивление легко. Он тогда хотел захватить первый снег, но осень стояла теплая, снега все не было, и он, чтобы не терять понапрасну время, принялся за речку. После, так и не дождавшись снега, он уехал из деревни. И затем — словно бы его подменили, — не работалось…
Снова Федор думал, что если бы знал такое, то не подался бы в город, остался бы там, в деревне, — как-нибудь перебился бы, топил печь, готовил что-нибудь, но работал бы… Он знал, что не вернуться домой не мог, и это злило: начинал думать о жене, о детях и додумался до того, что семья мешает работе. Вспомнилось ему давнее, он вздохнул и, чтобы отвлечься от бесполезных мыслей, посмотрел на стены.
Там — разные, как осколки, — висели старые работы, на которые и глядеть не хотелось. Последние этюды тоже не нравились, но на них он смотрел без отвращения. Все же была в них легкость, стылость осеннего дня перед близкими заморозками — верилось, что скоро выпадет снег, — небо было такое осеннее, холодное.
Со стены, обрамленный узкими белыми планками, смотрел на Федора солдат в ушанке, с лицом покрасневшим и обветренным. Взгляд у него был спокойный, грустный и внимательный, и казалось, сейчас он что-то скажет. Рядом с этим портретом висели еще две работы: хата с разрушенной стрехою — стропила почерневшие, двор бурьяном порос; и черное пепелище, от которого, казалось, пахло гарью. На нем, как две пригорюнившиеся бабы, стояли две почерневших печи. Что-то блестело в пепле, притягивало взгляд.
Еще был рисунок синего неба, легких белых облаков, много чего было на стенах мастерской, да только все это уже написано, пережито, все это — есть. А манит то, чего еще нет, что, кажется, будет лучшим, несравнимо лучшим, еще невиданным, и от этой мысли сжимается сердце в каком-то неясном предчувствии… Этим и жив художник, и стучит у него в висках: «Будет!.. будет!..» А между тем ничего конкретного в голове пока нет, нет даже какой-нибудь завалящей мысли, нет ни цвета, ни лица. И впереди еще много раздумий, разочарований, но все же что-то изменилось. Что?.. Этого не знает даже сам художник, ощутивший в какую-то секунду удивительную легкость в груди, предчувствие какой-то светлой мысли, но только — предчувствие.
Квартиру с мастерской Федор получил несколько лет назад. До этого они всей семьей ютились в мансарде старого дома. По соседству жило много художников, так что жизнь в этой комнате не выглядела ни странной, ни необычной — напротив, мансарда являлась чем-то привычным и понятным при слове «художник». В комнате было светло, но холодно зимами, и случалось, при ветре колыхались холсты и шторы на окнах надувались, как паруса. Хлопали рамы от сквозняков, болели дети. Тесно было, тут тебе и стол, за которым обедали, и мольберт, и этажерка с книгами. О работе и говорить не приходилось — быть может, поэтому Федор привык выезжать на природу. У него завалялся трофейный штатив для фотоаппарата, который он из-за малых размеров приспособил как подставку к этюднику. Сам этюдник тоже небольшой, аккуратный, с широким кожаным ремнем. В нем помещались краски, баночка с маслом, кисти. Больше ничего и не требовалось, и Федор в любой день, когда бы ни захотелось, мог уехать куда-нибудь. В город или за город. Осенью, если угадывался дождь, он брал длиннополый плащ, похожий на военную плащ-палатку, припасал в кармане кусок хлеба и ехал на окраину города или же в лес. Получив квартиру с мастерской — большой, светлой комнатой, — стал выезжать реже, но все же бывал и в парке, и в лесу.
Читать дальше
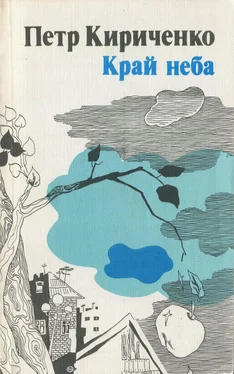
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




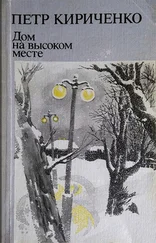
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)