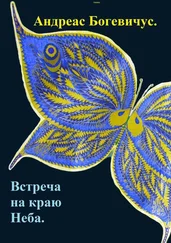Утром она рассказала сон Федору, но когда стала говорить, сразу же поняла, что словами невозможно передать ни легкость, ни ожидание чего-то прекрасного, ни готовность что-то пережить. Она смутилась, и вышло только одно: она писала картину маслом.
— Попробуй, — сказал Федор, кивнув на двери мастерской. — И мне легче будет.
— Ну, Федя, — обиделась она, — больше ничего не расскажу.
— Расскажешь, — возразил Федор спокойно, и этот разговор вскоре позабылся, хотя после ухода жены, оставшись один в мастерской, он надолго задумался. Вспомнилась вторая жена и то, как, не выдержав безденежья и неудач, она сбежала от него. Конечно, ей было нелегко — это Федор понимал: тесная комната, маленький ребенок, нехватка денег; возможно, что он уделял ей мало внимания… Но не это же главное, с голода не умирали, с маленькими детьми всем тяжело, да он тогда как раз получил деньги за одну работу — кажется, рублей восемьсот. Она взяла их, написав в записке, что эти деньги нужны для сына, и оставив Федору двадцать рублей. Он долго тогда смотрел на эти бумажки, чувствуя, как именно эти двадцать рублей его зацепили, — лучше бы она ничего не оставила. После, услышав, что Федору дали «заслуженного», жена приходила мириться, говорила ласковые слова. Федору показалось, она как-то переменилась, что-то поняла. «Сын у нас, Федя, — говорила жена тихо, с каким-то неведомым раньше смирением. — Сын без отца — как сирота…» И просила подумать.
Федор думал; он еще с войны не терпел никакого предательства, — и отказал… В войну он вошел как-то просто и незаметно: встретил ее в Херсоне и, прибавив себе два года, оказался на фронте. Рядовой Федор Самохин за четыре года был трижды ранен, получил награды. Победу встретил в небольшом городке, недалеко от Праги. День этот запомнился ему тишиной, в этом и была необычность. Не надо было ни маскироваться, ни закапываться в землю, что тогда казалось привычнее. Еще запомнилось, как, хватив на радостях вина, шофер перевернул машину, высыпал их на обочину как горох. Гвалт стоял, крики, смех, одного солдата плащ-палаткой накрыло, а может, и пришибло при падении, и он все никак не мог высвободиться.
— Братцы! — тихо кликал он из-под брезента. — Братцы! Что ж это такое?! Братцы!..
Голос его запомнился Федору на всю жизнь, как запомнилось многое.
— Ты чего? — спросил взводный шофера. — Всю войну откатал, а тут — победа пришла!..
— А хто ж его знает, — отвечал виновато тот. — Мабуть, нечистый попутал.
И все смеялись, потому что нечистый вполне вырисовывался в канистру крепкого вина.
После войны Федор стал учиться живописи; у него тогда было с десяток рисунков, но поступил он в художественную школу довольно легко, потому что фронтовик, а учение давалось тяжело — верно, по той же причине. Федор уже тогда понимал, что рисовать можно и не заканчивая никакой школы, но тогда останешься самоучкой, и еще понимал, что по-настоящему художник после школы только начинается. Хотелось просто рисовать, писать, а надо было читать книги, учиться композиции, линии, тени и всему тому, что казалось давно известным. Его друзья по художественной школе и учились легче, и жили проще, и ни о чем подобном даже не задумывались. Выходило, что Федор был старше их на десяток лет. Сказывалась война, ее опыт… Впоследствии, когда Федор стал известным в среде художников, этот же опыт помог ему отбиться и от учеников, и от людей, считавших себя знатоками живописи. Научить он никого не мог, потому что сам двигался от картины к картине, как слепой, на ощупь, а знатоки просто наводили тоску, потому что всегда говорили об одном и том же: о течениях в живописи, об искусстве вообще, и часто для них было важно только то, что и как они говорят. А говорили они, надо отдать должное, всегда красиво… А Федор, начиная иной раз новую работу, боялся сказать лишнее слово, будто бы вместе со словом могло что-то пропасть, ускользнуть. Это было похоже на то, как в войну перед атакой он тоже молчал, словно бы слова могли выдать его страх. Но тогда каждый из них боялся и никто не хотел тратиться впустую, потому что такое серьезное дело, как атака, требовало напряжения всех сил, каждый думал о чем-то своем, произносились только скупые, необходимые слова. «Теперь все говорят и мало кто слушает, — думал Федор, возвращаясь однажды из гостей, где собралась шумная компания художников. — Все изучили, черти, все знают, а не пишут. И говорят, говорят, как только не устанут…» И он подумал, что художником становишься как раз в одиночку, наедине с самим собою. В этом-то и сложность, потому что можно научиться и рисунку, и цвету, и терпению, а картины не будет… Словно бы в подтверждение своих мыслей, Федор вспомнил, как на привале делили сухари и тушенку. Один солдат стоял спиной к расстеленной плащ-палатке и говорил, кому что отдать. И ничего в этом не было ни удивительного, ни интересного — военные будни, не больше, но отчего же именно этот привал запомнился?.. Ветреный день, серое, осеннее небо. Федор помнил даже, где кто сидел, помнил, что угол плащ-палатки был придавлен двумя гранатами, под чахлым деревом стоял пулемет. Федор мог бы рассказать об этом в компании, но написать пока не мог… Отчего так?.. Ответа он не знал, так же как и не знал, отчего запомнился пригорок с пожелтевшей травой, где они устроили привал.
Читать дальше
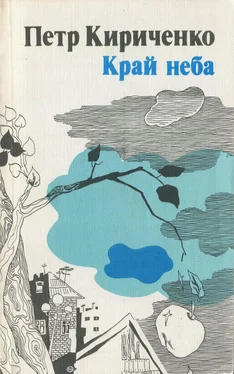
![Андрей Чародейкин - Иной край неба. Дилогия [СИ]](/books/32437/andrej-charodejkin-inoj-kraj-neba-dilogiya-si-thumb.webp)




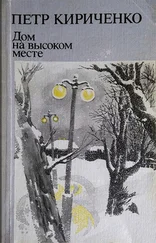
![Петр Лопатовский - Кусочек неба [litres самиздат]](/books/437189/petr-lopatovskij-kusochek-neba-litres-samizdat-thumb.webp)