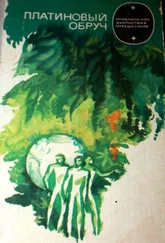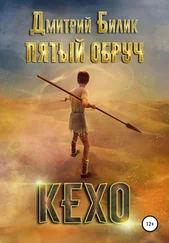Ну ладно, так и быть, коли хотите. Но я уже сказал, что вряд ли все это интересно для других. К тому же я должен начать издалека, а это для вас и вовсе скучно.
Так вот, жизнь моя с самого детства сложилась неважно. Теперь-то я обзавелся маленькой мастерской и стал сам себе хозяин, так что вроде и жаловаться не на что, но ведь все это не сразу сделалось. А из отцовского дома, я, кроме души и тела, ничего не унес. Вы и сами это поймете, если скажу, что родители мои были батраками в имении. Сами темные, нищие, подневольные люди, что они могли дать детям? Кое-какую одежонку, чтоб прикрыть тело, немножко похлебки, чтобы утолить голод, и две зимы в сельской школе, чтобы вызубрить катехизис. Однако так жили и другие, это бы еще полбеды. Но мать моя умерла, когда мне было года два, так что я ее и не помню. То, что называют материнской любовью, для меня все равно что пустота в пространстве. Впрочем, чего не знаешь, о том и тосковать не умеешь. Плохо, что мне пришлось испытать взамен материнской любви нечто совсем другое. Что было делать моему отцу-батраку, который остался один с малым ребенком, поросенком и грязными портянками, как не жениться во второй раз? Это случается, и это в порядке вещей. Все дело в том, какая ему жена досталась. Все они, кажется, со временем портятся, но эта с самого начала была ведьма. Удивительно, что она вообще оставила меня в живых, и я могу сейчас сидеть и беседовать с вами. Что для нее значила смерть такого малыша, как я! Во всяком случае, с тех пор, как я себя помню, жизнь моя была сплошным адом. А когда у мачехи появились свои дети, доля моя стала еще горше. А отец? Он мало что замечал, а если и заметит, то посопит слегка с досады, но отпора не дает. Думал, наверно: такова уж доля бедняцкая, чего там! Уже восьмилетним ребенком меня отдали в пастухи к чужим людям, там мною мог помыкать кто хотел. Но так я, по крайности, на лето избавлялся от мачехи. Да еще две зимы в сельской школе — голодным, оборванным мальчишкой, которому приходилось терпеть от всех лишь презрение и насмешки. Все остальное время мачеха пилила и поедом ела меня, била и мучила. Кабы я мог отпор ей дать! Но я был тогда еще таким слабосильным, малорослым парнишкой. Только копить ненависть в сердце да скрежетать зубами — вот все, что мне оставалось.
Да, я мог стать человеконенавистником на всю жизнь. Потому что все, что я в детстве видел и испытал, была лишь злоба и ненависть. Но тут мне придется рассказать и о другого рода вещах.
Управляющий в том имении был настоящий барин, жил по-барски и с народом обращался по-барски. И было у него несколько детей, тоже настоящих барчуков, чванных и заносчивых. Я и сейчас не упрекаю их в этом, а тогда и подавно не упрекал. Так уж они были воспитаны, в то время как нас вообще не воспитывали (даже слова такого у нас не было в обиходе!). Им словно привили черенок другого, ценного дерева, а нас оставили горькими, кислыми дичками. Вот с этим-то сознанием они и жили. Но среди других детей у управляющего была дочка, которая ко мне, по крайней мере, относилась совсем иначе. Звали ее Ама, и мне это имя всегда казалось, да и теперь кажется странным. Правда, я потом дознался, что оно могло означать. Ама была примерно моих лет, но выглядела много здоровее такого заморыша, как я. Да и чему тут удивляться, если сравнить жизнь в доме управляющего и в батрацкой хибарке. Помню, словно вчера это было, как я впервые встретился с ней. Мне тогда было немногим больше десяти лет. Была поздняя осень, и я, присев на корточки в канаве за яблоневым садом, грыз грязную кормовую свеклу. Просто с голоду. И вдруг услышал возле себя голоса «Она же не годится для еды!» Я от испуга не мог двинуться с места. «Кража на помещичьем огороде! — мелькнуло у меня в голове. — Девчонка обязательно нажалуется!» Я молчал, а она губы скривила и снова: «Это же не годится есть!» А я наконец только и нашелся сказать: «Нет, годится». Она еще с минуту поглядела на меня и говорит: «Почему у тебя нос мокрый? Вытри!» И я рукавом провел по носу. После этого мы разошлись в разные стороны.
Конечно, это совсем ребяческие воспоминания. Но если жизнь бедна, то и такое запоминается. Несколько дней я дрожал от страха, ожидая взбучки от отца за свое воровство. Но страх мой был напрасен. Аме и в голову не пришло жаловаться, она, быть может, и не понимала, что это воровство.
Мы и после редко встречались. А если и встречались, то наши встречи были иные, чем у других ребят. Чаще всего мы лишь молча глядели друг на друга. Говорить было нечего, было как-то жалостно. Да, теперь, долгое время спустя, я понимаю, что это было чувство жалости.
Читать дальше

![Любовь Алферова - Платиновый обруч [Фантастические произведения]](/books/23941/lyubov-alferova-platinovyj-obruch-fantasticheskie-p-thumb.webp)



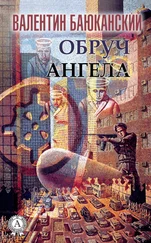
![Сергей Васильев - Обруч [СИ]](/books/426378/sergej-vasilev-obruch-si-thumb.webp)